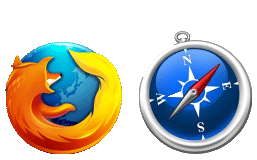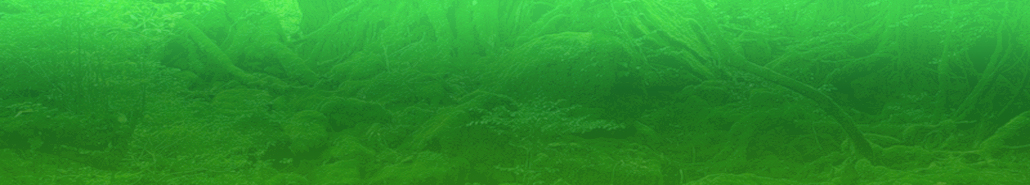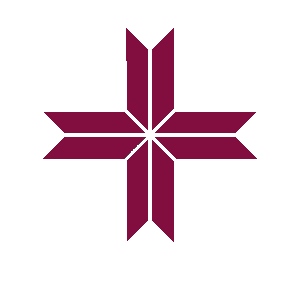X. Из «Критической истории»
В заключение бросим ещё взгляд на «Критическую историю политической экономии», на «это предприятие» г-на Дюринга, которое, по его словам, «совершенно не имеет предшественников». Быть может, здесь-то мы встретим, наконец, неоднократно обещанную предельную и строжайшую научность.
Г-н Дюринг поднимает много шуму по поводу своего открытия, что
«учение о хозяйстве» представляет собой «в высокой степени современное явление» (стр. 12).
Действительно, Маркс в «Капитале» говорит: «Политическая экономия… как самостоятельная наука возникает лишь в мануфактурный период» 148, а в сочинении «К критике политической экономии» (стр. 29): «Классическая политическая экономия… начинается в Англии с Петти, а во Франции с Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции Сисмонди» 149. Г-н Дюринг следует этому предначертанному ему пути, с той лишь разницей, что у г-на Дюринга высшая политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука произвела на свет, когда уже закончился её классический период. Зато он с полнейшим правом может торжествовать в конце своего «Введения», заявляя следующее:
«Но если это предприятие уже по своему внешнему своеобразию и по новизне значительной части своего содержания совершенно не имеет предшественников, то в ещё гораздо большей степени оно принадлежит мне как собственность по своим внутренним критическим точкам зрения и по своей общей позиции» (стр. 9).
В сущности он мог бы в отношении обеих сторон — внешней и внутренней — анонсировать своё «предприятие» (промышленное выражение выбрано здесь недурно) как: «Единственный и его собственность» 150.
Так как политическая экономия в том виде, в каком она исторически возникла, представляет собой на деле не что иное, как научное понимание экономики периода капиталистического производства, то относящиеся сюда положения и теоремы могут встречаться, например, у писателей древнегреческого общества лишь постольку, поскольку известные явления, как товарное производство, торговля, деньги, капитал, приносящий проценты, и т. д., общи обеим общественным системам. Поскольку греки делают иногда случайные экскурсы в эту область, они обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Исторически их воззрения образуют поэтому теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем всемирно-исторического г-на Дюринга.
«Таким образом, что касается научной теории хозяйства в древности, мы, собственно говоря» (!), «не имели бы сообщить ровно ничего положительного, а совершенно чуждое науке средневековье даёт ещё гораздо меньше поводов к этому» (к тому, чтобы ничего не сообщать!). «Но так как манера, тщеславно выставляющая напоказ видимость учёности… исказила чистый характер современной науки, то для принятия к сведению должны быть приведены, по крайней мере, некоторые примеры».
И г-н Дюринг даёт затем примеры такой критики, которая действительно свободна даже от «видимости учёности».
Положение Аристотеля, что
«каждое благо имеет двоякое употребление: первое присуще вещи как таковой, второе — нет; так, сандалия может служить для обувания ноги и для обмена; то и другое суть способы употребления сандалии, ибо даже тот, кто обменивает сандалию на что-либо, в чём он нуждается, например на деньги или пищу, пользуется сандалией как сандалией; но это не есть естественный способ её употребления, ибо она существует не для обмена» 151,
— это положение, по мнению г-на Дюринга, «высказано в весьма тривиальной и школьной форме». Но мало того — тот, кто находит в нём «различение между потребительной и меновой стоимостью», попадает вдобавок в «комическое положение», забывая, что «в самое новейшее время» и «в рамках самой передовой системы», — разумеется, системы самого г-на Дюринга, — с потребительной и меновой стоимостью покончено раз навсегда.
«В сочинении Платона о государстве… тоже стремились отыскать современную главу о народнохозяйственном разделении труда».
Это замечание должно, вероятно, относиться к тому месту в «Капитале», гл. XII, §5 (стр. 369 третьего издания), где — как раз наоборот — доказано, что взгляд классической древности на разделение труда составлял «прямую
противоположность» современному 152. — Презрительную мину — и ничего больше — вызывает у г-на Дюринга гениальное для своего времени изображение разделения труда Платоном 153, как естественной основы города (который у греков был тождественен с государством), — и только потому, что Платон не упоминает (зато ведь это сделал грек Ксенофонт 154, г-н Дюринг!) о
«границе, которую данные размеры рынка полагают для дальнейшего разветвления профессий и технического разделения специальных операций. Только благодаря представлению об этой границе идея разделения труда, едва ли заслуживающая при ином понимании названия научной, становится значительной экономической истиной».
Столь презираемый г-ном Дюрингом «профессор» Рошер и в самом деле провёл эту «границу», при которой, по мнению г-на Дюринга, идея разделения труда впервые становится «научной», и потому прямо назвал Адама Смита родоначальником закона разделения труда 155. В обществе, где товарное производство составляет господствующий способ производства, «рынок» всегда был — если уж воспользоваться дюринговской манерой речи — «границей», весьма известной среди «деловых людей». Но требуется нечто большее, чем «знание и инстинкт рутины», для понимания того, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, а, наоборот, разложение прежних общественных связей и возникающее отсюда разделение труда создали рынок (см. «Капитал», т. I, гл. XXIV, §5: Создание внутреннего рынка для промышленного капитала 156).
«Роль денег была во все времена первым и главным стимулом для хозяйственных» (!) «мыслей. Но что знал об этой роли некий Аристотель? Его знания, совершенно очевидно, не выходили за пределы представления, что обмен посредством денег последовал за первоначальным натуральным обменом».
Но если «некий» Аристотель позволяет себе открыть две различные формы обращения денег — одну, в которой они функционируют как всего лишь средство обращения, и другую, в которой они функционируют как денежный капитал 157, — то, по словам г-на Дюринга,
он выражает этим «лишь известную нравственную антипатию».
А когда «некий» Аристотель доходит в своей самонадеянности до того, что берётся анализировать «роль» денег как меры стоимости и действительно правильно ставит эту проблему, имеющую столь решающее значение для учения о деньгах 158, то «некий» Дюринг предпочитает уж совершенно умолчать о такой непозволительной дерзости, — разумеется, по вполне основательным тайным соображениям.
Конечный итог: греческая древность в том отражении, которое она получила в зеркале дюринговского «принятия к сведению», действительно обладает «лишь самыми заурядными идеями» (стр. 25), если только подобные «нелепости» (стр. 29) имеют вообще что-либо общее с идеями, заурядными или незаурядными.
Главу, которую г-н Дюринг написал о меркантилизме, гораздо лучше прочесть в «оригинале», т. е. у Ф. Листа («Национальная система», гл. 29: «Промышленная система, получившая на языке школы ошибочное название меркантилистской системы»). Как тщательно г-н Дюринг умеет и здесь избегать всякой «видимости учёности», показывает, между прочим, следующее.
Лист (гл. 28: «Итальянские экономисты») говорит:
«Италия шла впереди всех новейших наций как на практике, так и в области теории политической экономии»,
и упоминает далее
как «первое, написанное в Италии, сочинение, специально трактующее вопросы политической экономии, — книгу неаполитанца Антонио Серры о средствах, могущих доставить королевствам избыток золота и серебра (1613 г.)» 159.
Г-н Дюринг доверчиво принимает это указание и потому может рассматривать «Краткий трактат» Серры 160
«как своего рода надпись над входом в новейшую предысторию экономической науки».
Этой «беллетристической фразой» в сущности и ограничивается его рассмотрение «Краткого трактата». К несчастью, дело происходило в действительности иначе: уже в 1609 г., т. е. за четыре года до «Краткого трактата», появилось сочинение Томаса Мана «Рассуждение о торговле» и т. д. 161. Это сочинение уже в первом своём издании имело то специфическое значение, что было направлено против первоначальной монетарной системы, которую тогда ещё защищали в Англии в качестве государственной практики; оно представляло, следовательно, сознательное самоотмежевание меркантилистской системы от системы, явившейся её родоначальницей. Уже в первоначальном своём виде сочинение Мана выдержало несколько изданий и оказало прямое влияние на законодательство. Совершенно переработанное автором и вышедшее в свет в 1664 г., уже после его смерти, под заглавием «Богатство Англии» и т. д., сочинение это оставалось ещё в течение ста лет евангелием меркантилизма. Таким образом, если меркантилизм имеет какое-нибудь
составляющее эпоху сочинение «как своего рода надпись над входом», то таким сочинением следует признать книгу Мана, но именно потому-то она совершенно не существует для дюринговской «истории, тщательно соблюдающей ранги».
Об основателе современной политической экономии, Петти, г-н Дюринг сообщает нам, что
он отличался «довольно легковесным способом мышления», далее — «отсутствием понимания внутренних и более тонких различений понятий»… «изворотливостью, которая много знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не имея корней в какой-либо более глубокой мысли»… он «рассуждает о народном хозяйстве ещё очень грубо» и «приходит к наивностям, контраст которых… может иной раз и позабавить более серьёзного мыслителя».
Какое это милостивое снисхождение, когда «некоего Петти» вообще удостаивает вниманием «более серьёзный мыслитель» — г-н Дюринг! Но в чём выразилось это внимание?
Положения Петти, касающиеся
«труда и даже рабочего времени как меры стоимости, — о чём у него встречаются неясные следы», —
у г-на Дюринга нигде, кроме этой фразы, не упоминаются. Неясные следы! В своём «Трактате о налогах и сборах» (первое издание вышло в 1662 г.) 162 Петти даёт вполне ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Наглядно пояснив её сначала на примере равной стоимости благородных металлов и зерна, потребовавших одинакового количества труда, Петти говорит первое и вместе с тем последнее «теоретическое» слово о стоимости благородных металлов. Но, кроме того, Петти высказывает в определённой и всеобщей форме мысль о том, что стоимости товаров измеряются равным трудом (equal labour). Он применяет своё открытие к решению разных проблем, иногда весьма запутанных, и местами — по разным случаям и в разных сочинениях, даже там, где он не повторяет этого основного положения, — он делает из него важные выводы. Но уже в своём первом сочинении он говорит:
«Я утверждаю, что это» (т. е. оценка посредством равного труда) «является основой для уравнивания и взвешивания стоимостей *; однако я должен сознаться, что в надстройках, возвышающихся на этой основе, и в практических её применениях имеет место большое разнообразие и большая сложность».
Следовательно, Петти одинаково сознаёт и важность своего открытия, и трудность применения его в конкретных случаях. Поэтому для некоторых частных случаев он пытается испробовать также и иной путь.
* Подчёркнуто Марксом. Ред.
Нужно, — говорит Петти, — найти естественное отношение равенства (a natural Par) между землёй и трудом так, чтобы стоимость можно было, по желанию, выражать «как в земле, так и в труде или, ещё лучше, в них обоих».
Само заблуждение Петти гениально.
По поводу теории стоимости Петти г-н Дюринг делает следующее, отличающееся большой остротой мысли, замечание:
«Если бы он сам отличался большей остротой мысли, то было бы совершенно невозможным, чтобы у него в других местах оказались следы противоположной концепции, о которых упоминалось уже раньше»;
это значит — о которых «раньше» у г-на Дюринга ничего не упоминалось, кроме заявления, что «следы»… «неясны». Для г-на Дюринга весьма характерна эта манера — «раньше» намекнуть на что-нибудь какой-либо бессодержательной фразой для того, чтобы «после» внушать читателю, что он уже «раньше» получил сведения о сути дела, от которой вышеозначенный автор в действительности увиливает, — как раньше, так и после.
Но вот у Адама Смита мы находим не только «следы противоположных концепций» относительно понятия стоимости и не только два, но целых три, а говоря совсем точно — даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость, которые мирно располагаются у него рядом или переплетаются друг с другом. Однако то, что является естественным для основоположника политической экономии, который по необходимости подвигается ощупью, экспериментирует, борется с только ещё формирующимся хаосом идей, — может показаться странным у писателя, подводящего итоги более чем полуторастолетней работе, результаты которой успели уже отчасти перейти из книг в общее сознание. А теперь перейдём от великого к малому: как мы видели выше, г-н Дюринг сам также преподносит на наше благоусмотрение пять различных видов стоимости и вместе с ними такое же количество противоположных концепций. Конечно, «если бы он сам отличался большей остротой мысли», то он не потратил бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Петти на стоимость отбросить своих читателей назад к полнейшей путанице.
До конца отделанной, как бы вылитой из одного куска работой Петти является его сочинение «Кое-что о деньгах». Оно было опубликовано в 1682 г., десять лет спустя после его «Анатомии Ирландии» (которая появилась «впервые» в 1672 г., а не в 1691 г., как это утверждает г-н Дюринг, списывая с «самых ходячих компилятивных учебников») 163. Последние следы меркантилистских воззрений, встречающихся в других сочинениях
Петти, здесь совершенно исчезли. Эта небольшая работа — настоящий шедевр по содержанию и по форме; но именно поэтому даже заглавие её ни разу не упоминается у г-на Дюринга. Да это и в порядке вещей, что по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту напыщенная и менторски-претенциозная посредственность может только высказывать своё ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду по поводу того, что искры теоретической мысли не вылетают здесь стройными сомкнутыми рядами как готовые «аксиомы», а возникают разрозненно по мере углубления в «сырой» практический материал, например в налоговую систему.
Так же, как к собственно экономическим работам Петти, г-н Дюринг относится и к основанной Петти «политической арифметике», vulgo * — статистике. Одно лишь презрительное пожимание плечами по поводу странности применяемых Петти методов! Если мы вспомним те причудливые методы, которые ещё сто лет спустя применял в этой области науки даже Лавуазье 164, если мы вспомним, как далека ещё нынешняя статистика от той цели, которую поставил перед ней в крупных чертах Петти, то два столетия post festum ** подобное самодовольное умничанье выступает во всей своей неприглядной глупости.
Самые значительные идеи Петти, едва-едва упоминаемые в «предприятии» г-на Дюринга, являются, по его утверждению, только отдельными догадками, случайными мыслями и замечаниями, которым только в наше время, при помощи выхваченных из контекста цитат, придают некое им самим по себе вовсе не присущее значение; они, следовательно, не играют никакой роли в действительной истории политической экономии, а играют роль только в современных книгах, стоящих ниже уровня проникающей до корня вещей критики г-на Дюринга, ниже его «историографии в высоком стиле». По-видимому, г-н Дюринг, затевая своё «предприятие», рассчитывал на слепо верующий круг читателей, который ни в каком случае не осмелится потребовать от него доказательств его утверждений. Мы вскоре вернёмся ещё к этому вопросу (когда будем говорить о Локке и Норсе), но сперва мы должны мимоходом коснуться Буагильбера и Ло.
Что касается первого, то мы отметим единственное принадлежащее г-ну Дюрингу открытие: он открыл незамеченную раньше связь между Буагильбером и Ло. А именно, Буагильбер утверждает, что благородные металлы — в нормальных денежных
* — попросту говоря. Ред.
** — спустя (буквально: после праздника, т. е. после того, как событие произошло, задним числом). Ред.
функциях, которые они выполняют в товарном обращении, — могли бы быть заменены кредитными деньгами (un morceau de papier *) 165. Ло, напротив, воображает, что любое «увеличение количества» этих «клочков бумаги» увеличивает богатство нации. Отсюда для г-на Дюринга вытекает заключение, что
«ход мысли Буагильбера уже таил в себе новый поворот в развитии меркантилизма»,
другими словами — уже таил в себе Ло. Это с лучезарной ясностью доказывается следующим образом:
«Достаточно было только приписать «простым клочкам бумаги» ту же роль, которую, согласно прежним представлениям, должны были играть благородные металлы, и на этом пути тотчас же совершилась метаморфоза меркантилизма».
Подобным способом можно тотчас же произвести метаморфозу дяди в тётку. Правда, г-н Дюринг успокаивающе добавляет:
«Конечно, у Буагильбера не было такого намерения».
Но каким же образом, чёрт побери, он мог иметь намерение заменить своё собственное рационалистическое воззрение на денежную роль благородных металлов суеверным воззрением меркантилистов — по той только причине, что, по его мнению, благородные металлы могут быть заменены в этой роли бумагой?
Однако, — продолжает г-н Дюринг со своей комической серьёзностью, — «однако можно всё-таки признать, что местами нашему автору удаётся сделать действительно меткое замечание» (стр. 83).
Относительно Ло г-ну Дюрингу удаётся сделать только следующее «действительно меткое замечание»:
«Понятно, что и Ло не мог никогда полностью искоренить указанную основу» (т. е. «благородные металлы в качестве базиса»), «но он довёл выпуск билетов до крайности, т. е. до крушения всей системы» (стр. 94).
На самом деле, однако, бумажные мотыльки, эти простые денежные знаки, должны были порхать в публике не для того, чтобы «искоренить» тот базис, которым являются благородные металлы, а для того, чтобы переманить эти металлы из карманов публики в опустевшие государственные кассы 166.
Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной роли, которую г-н Дюринг отводит ему в истории политической экономии, послушаем сначала, что́ сообщается нам о ближайших преемниках Петти — о Локке и Норсе. В одном и том же, 1691, году, вышли в свет «Соображения о снижении процента и
* — клочком бумаги. Ред.
повышении стоимости денег государством» Локка и «Рассуждения о торговле» Норса.
«То, что́ он» (Локк) «писал о проценте и монете, не выходит за пределы таких размышлений, которые при господстве меркантилизма были обычны в связи с событиями государственной жизни» (стр. 64).
Теперь для читателя этого «сообщения» должно стать ясно как день, почему сочинение Локка «Снижение процента» приобрело во второй половине XVIII века такое значительное влияние на политическую экономию во Франции и Италии, притом в различных направлениях.
«По вопросу о свободе процентной ставки многие деловые люди думали подобным же образом» (как и Локк), «да и в ходе событий люди приобрели склонность считать ограничения процента недействительной мерой. В такое время, когда некий Дадли Норс мог написать свои «Рассуждения о торговле» в духе теории свободной торговли, должно было как бы носиться уже в воздухе много такого, в силу чего теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась уже чем-то неслыханным» (стр. 64).
Итак, Локку достаточно было повторить то, что думал тот или иной из современных ему «деловых людей», или же подхватить многое такое, что в то время «как бы носилось в воздухе», чтобы теоретизировать о свободе процента и не сказать при этом ничего «неслыханного»! На самом деле, однако, Петти уже в 1662 г. противопоставлял в своём «Трактате о налогах и сборах» процент как ренту с денег, которую мы именуем ростовщической лихвой (rent of money which we call usury), земельной ренте и ренте с недвижимостей (rent of land and houses) и разъяснял землевладельцам, которые хотели законодательными мерами держать на низком уровне ренту, — конечно денежную, а не земельную, — насколько тщетно и бесплодно издавать положительные гражданские законы, противоречащие закону природы (the vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature) 167. В своём «Кое-что о деньгах» (1682) он объявляет поэтому законодательное регулирование высоты процента столь же нелепой мерой, как регулирование вывоза благородных металлов или же регулирование вексельного курса. В том же сочинении он высказывает имеющий раз навсегда решающее значение взгляд относительно raising of money * (попытки придать, например, полшиллингу наименование шиллинга тем способом, что из унции серебра чеканится двойное количество шиллингов).
В этом последнем пункте Локк и Норс почти только копируют его. Что касается процента, то Локк берёт своей исходной
* — повышения стоимости денег государством. Ред.
точкой параллель, которую проводил Петти между процентом с денег и земельной рентой, тогда как Норс идёт дальше и противопоставляет процент как ренту с капитала (rent of stock) земельной ренте, а капиталистов [stocklords] — земельным собственникам [landlords] 168. Но в то время как Локк принимает требуемую Петти свободу процента лишь с ограничениями, Норс принимает её абсолютно.
Г-н Дюринг превосходит самого себя, когда он, сам ещё заядлый меркантилист в «более тонком» смысле, разделывается с «Рассуждениями о торговле» Дадли Норса при помощи замечания, что они написаны «в духе теории свободы торговли». Это всё равно, как если бы кто-нибудь сказал о Гарвее, что он писал «в духе» теории кровообращения. Работа Норса, не говоря уже о прочих её заслугах, представляет собой классическое, написанное с непреклонной последовательностью изложение учения о свободе торговли как внешней, так и внутренней, а в 1691 г. это было, бесспорно, «чем-то неслыханным»!
Кроме того, г-н Дюринг сообщает, что
Норс был «торговцем», к тому же дрянным человеком, и что его сочинению «не удалось снискать одобрение».
Не хватало только, чтобы в эпоху окончательной победы в Англии системы покровительственных пошлин подобная работа встретила «одобрение» у задававшего тогда тон сброда! Это не помешало, однако, работе Норса оказать тотчас же теоретическое влияние, которое можно проследить в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии непосредственно после неё, отчасти ещё в XVII веке.
Пример Локка и Норса даёт нам доказательство того, что первые смелые попытки, сделанные Петти почти во всех областях политической экономии, были в отдельности восприняты его английскими преемниками и подверглись дальнейшей разработке. Следы этого процесса в течение периода с 1691 до 1752 г. бросаются в глаза даже самому поверхностному наблюдателю уже потому, что все сколько-нибудь значительные экономические работы этого времени исходят, положительно или отрицательно, из взглядов Петти. Вот почему этот период, изобилующий оригинальными умами, является наиболее важным для исследования постепенного генезиса политической экономии. Вменяя Марксу в непростительную вину, что «Капитал» придаёт такое значение Петти и писателям указанного периода, — «историография в высоком стиле» просто вычёркивает их из истории. От Локка, Норса, Буагильбера и Ло эта «историография» прямо перескакивает к физиократам, а затем у входа
в подлинный храм политической экономии появляется… Давид Юм. С позволения г-на Дюринга, мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами.
Экономические «Очерки» Юма появились в 1752 году 169. В связанных друг с другом очерках: «О деньгах», «О торговом балансе», «О торговле» Юм следует шаг за шагом, часто даже в причудах, за книгой Джейкоба Вандерлинта: «Деньги соответствуют всем вещам», Лондон, 1734. Как бы ни был неизвестен г-ну Дюрингу этот Вандерлинт, всё же с ним считаются ещё и в английских экономических сочинениях конца XVIII века, т. е. в послесмитовский период.
Подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как всего лишь знак стоимости; Юм почти дословно (и это обстоятельство важно отметить, так как теорию знаков стоимости Юм мог бы позаимствовать из многих других сочинений) списывает у Вандерлинта объяснение, почему торговый баланс не может быть постоянно против какой-нибудь страны или постоянно в её пользу; подобно Вандерлинту, он развивает учение о равновесии балансов, устанавливающемся естественным путём, сообразно различному экономическому положению отдельных стран; подобно Вандерлинту, он проповедует свободу торговли, только менее смело и последовательно; вместе с Вандерлинтом, только более поверхностно, он выдвигает роль потребностей как стимулов производства; он следует за Вандерлинтом, приписывая банковским деньгам и всем официальным ценным бумагам не соответствующее действительности влияние на товарные цены; вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги; подобно Вандерлинту, он ставит товарные цены в зависимость от цены труда, следовательно — от заработной платы; он списывает у Вандерлинта даже ту выдумку, что собирание сокровищ удерживает товарные цены на низком уровне, и т. д. и т. д.
Г-н Дюринг уже давно с таинственностью оракула бормотал что-то насчёт непонимания кое-кем денежной теории Юма и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Маркса, провинившегося вдобавок в том, что он, с нарушением полицейских правил, указал в «Капитале» на тайные связи Юма с Вандерлинтом и Дж. Масси 170, о котором ещё будет речь ниже.
С означенным непониманием дело обстоит следующим образом. Что касается действительной денежной теории Юма, согласно которой деньги являются только знаками стоимости и потому цены товаров, при прочих равных условиях, повышаются пропорционально увеличению обращающейся денежной массы и падают пропорционально уменьшению её, — то о ней г-н Дюринг, при всём своём желании, способен только
повторять, — хотя и со свойственной ему лучезарной манерой изложения, — своих ошибавшихся предшественников. Но Юм, выдвинув указанную теорию, делает себе самому следующее возражение (которое сделал уже Монтескьё 171, исходя из тех же предпосылок):
Всё-таки «не подлежит сомнению», что со времени открытия американских приисков золота и серебра «промышленность выросла у всех народов Европы, за исключением владельцев этих приисков», и что этот рост «был обусловлен, наряду с другими причинами, увеличением количества золота и серебра».
Юм объясняет это явление тем, что
«хотя необходимым следствием увеличения количества золота и серебра является высокая цена товаров, однако она не следует непосредственно за этим увеличением, а требуется некоторое время, пока деньги в своём обращении не обойдут всего государства и не проявят своего действия во всех слоях народа». В этот промежуточный период они действуют благотворно на промышленность и торговлю.
В конце этого рассуждения Юм говорит нам также о том, почему это так происходит, хотя он даёт гораздо более одностороннее объяснение, чем некоторые из его предшественников и современников:
«Нетрудно проследить движение денег через всё общество, и тогда мы найдём, что они должны подстёгивать усердие каждого, прежде чем они повысят цену труда *» 172.
Другими словами: Юм описывает здесь действие революции в стоимости благородных металлов, а именно — их обесценения, или, что то же, революции в той мере стоимости, которой являются благородные металлы. Он правильно замечает, что при совершающемся лишь постепенно выравнивании товарных цен это обесценение благородных металлов «повышает цену труда», vulgo заработную плату, только в последнюю очередь; следовательно, оно увеличивает за счёт рабочих прибыль купцов и промышленников (а это, по его мнению, вполне в порядке вещей) и, таким образом, «подстёгивает усердие». Однако собственно научного вопроса, — влияет ли на товарные цены увеличенный подвоз благородных металлов при неизменной стоимости их, и каким именно образом, — этого вопроса Юм себе не ставит и смешивает всякое «увеличение количества благородных металлов» с их обесценением. Стало быть, Юм рассуждает именно так, как это изображает Маркс («К критике», стр. 141) 173. Мы ещё вернёмся мимоходом к этому пункту, но сначала обратимся к очерку Юма «О проценте».
* Подчёркнуто Марксом. Ред.
Направленную прямо против Локка аргументацию Юма, что процент регулируется не массой наличных денег, а нормой прибыли, и прочие его рассуждения о причинах, определяющих высокую или низкую ставку процента, — всё это, в гораздо более точной, но менее остроумной форме, можно найти в одной работе, появившейся в 1750 г., т. е. за два года до юмовского очерка: «Опыт о причинах, определяющих естественную норму процента; где рассматриваются взгляды сэра У. Петти и г-на Локка по этому вопросу». Автор её — Дж. Масси, разносторонний писатель, которого много читали, как это видно из английской литературы того времени. Трактовка процентной ставки у Адама Смита стоит ближе к Масси, чем к Юму. Оба, и Масси и Юм, ничего не знают и ничего не говорят о природе самой «прибыли», играющей у них обоих определяющую роль.
«Вообще», — поучает г-н Дюринг, — «к оценке Юма подходили большей частью с совершенно предвзятым мнением, приписывая ему идеи, которых он совершенно не разделял».
И сам г-н Дюринг даёт нам не один яркий пример подобного «подхода».
Так, например, очерк Юма о проценте начинается следующими словами:
«Ничто не считается более надёжным показателем процветания какого-нибудь народа, чем низкая ставка процента, и это правильно; хотя я полагаю, что причина этого явления несколько иная, чем обыкновенно принято думать» 174.
Итак, в первой же фразе Юм приводит взгляд, что низкая ставка процента есть самый надёжный показатель процветания данного народа, рассматривая этот взгляд как общее место, ставшее в его время уже тривиальным. И в самом деле, со времени Чайлда у этой «идеи» было в распоряжении целых сто лет, чтобы стать ходячей. У г-на Дюринга, напротив, мы читаем:
«Из взглядов Юма на ставку процента следует главным образом подчеркнуть ту идею, что ставка процента является истинным барометром состояний» (каких?) «и что низкая ставка его является почти безошибочным признаком процветания данного народа» (стр. 130).
Кто здесь обнаруживает «предвзятость» и кто попал впросак? Не кто иной, как г-н Дюринг.
Между прочим, наш критический историограф выражает наивное удивление по поводу того, что Юм, высказав некоторую удачную идею, «даже не называет себя её автором». С г-ном Дюрингом ничего подобного не случилось бы.
Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с тем увеличением его, которое сопровождается их обесценением, революцией в их собственной стоимости, а следовательно — в мере стоимости товаров. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он совершенно не понимал функции благородных металлов как меры стоимости. Он и не мог понимать её, так как абсолютно ничего не знал о самой стоимости. Самое слово «стоимость» фигурирует, быть может, один только раз в его очерках, а именно в том месте, где он неудачно «поправляет» ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы имеют «только воображаемую стоимость», и говорит, что они имеют «главным образом фиктивную стоимость» 175.
Юм стоит в этом вопросе значительно ниже не только Петти, но и некоторых своих английских современников. Ту же «отсталость» он обнаруживает и тогда, когда всё ещё продолжает на старый лад прославлять «купца» как основную пружину производства, — точка зрения, от которой уже задолго до этого отказался Петти. Что же касается уверения г-на Дюринга, будто Юм занимался в своих очерках «главными хозяйственными отношениями», то достаточно сравнить эти очерки хотя бы с произведением Кантильона, которое цитирует Адам Смит (появилось в свет, как и очерки Юма, в 1752 г., но спустя много лет после смерти автора) 176, чтобы поразиться тому, насколько узок кругозор юмовских экономических работ. Как сказано, Юм, несмотря на патент, выданный ему г-ном Дюрингом, остаётся и в области политической экономии почтенной величиной, но здесь он менее всего может быть признан оригинальным исследователем, а тем более — мыслителем, составившим эпоху в науке. Влияние его экономических очерков на тогдашние образованные круги объясняется не только их превосходной формой изложения, но в ещё гораздо большей степени тем, что они являлись прогрессивно-оптимистическим дифирамбом расцветавшим тогда промышленности и торговле, другими словами, были прославлением быстро развивавшегося тогда в Англии капиталистического общества, у которого они, естественно, должны были встретить «одобрение». Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому известно, какую ожесточённую борьбу вела английская народная масса как раз во времена Юма против системы косвенных налогов, которая планомерно проводилась пресловутым Робертом Уолполом для облегчения налогового обложения земельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы читаем в очерке «О налогах» («Of Taxes»), где Юм полемизирует против своего, всегда перед ним
витающего авторитета, — не называя его по имени, — Вандерлинта, самого ярого противника косвенных налогов и самого решительного поборника обложения земельной собственности:
«Они» (т. е. налоги на предметы потребления) «должны действительно быть уж очень высоки и очень неразумно установлены, если рабочий не в состоянии платить их даже при усиленном прилежании и бережливости, не повышая при этом цены своего труда *» 177.
Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Уолпола, особенно если присовокупить к этому то место из очерка «О государственном кредите», где по поводу трудности обложения государственных кредиторов говорится следующее:
«Уменьшение их дохода в этом случае не было бы замаскировано * так, как это происходит при обложении тем или иным видом акциза или таможенных пошлин» 178.
Как этого и следовало ожидать от шотландца, преклонение Юма перед буржуазным стяжательством отнюдь не было чисто платоническим. Далеко не богач по происхождению, он дошёл до весьма солидного годового дохода, исчисляемого тысячами фунтов, — факт, который у г-на Дюринга, так как дело идёт в данном случае не о Петти, выражен в следующей деликатной форме:
«Благодаря разумной частной экономии Юм, на основе очень незначительных средств, достиг такого положения, при котором не имел надобности писать в угоду кому-либо».
Г-н Дюринг говорит дальше о Юме:
«Он никогда не делал ни малейших уступок влиянию партий, государей или университетов».
Хотя действительно неизвестно, чтобы Юм вёл когда-нибудь литературно-компанейские дела с каким-нибудь «Вагенером» 179, — однако мы знаем, что он был рьяным приверженцем виговской олигархии, превозносившей «церковь и государство», и в награду за эти заслуги получил сначала пост секретаря посольства в Париже, а затем — гораздо более важный и доходный пост помощника статс-секретаря.
«В политическом отношении», — говорит старик Шлоссер, — «Юм был и всегда оставался человеком консервативного и строго монархического образа мыслей. Поэтому приверженцы господствующей церкви не обрушивались на него с таким ожесточением, как на Гиббона» 180.
«Этот эгоист Юм, этот лживый историк», — говорит «грубо»-плебейский Коббет, — ругает английских монахов, называя их откормленными,
* Подчёркнуто Марксом. Ред.
безбрачными и бессемейными попрошайками, «а между тем сам он никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным толстяком, откормленным в значительной степени на общественные средства, никогда не заслужив этого какой-нибудь действительно общественной службой» 181.
А у г-на Дюринга мы читаем, что
Юм «в практическом отношении к жизни имеет в существенных чертах очень большое преимущество перед таким человеком, как Кант».
Почему, однако, Юму в «Критической истории» даётся столь преувеличенная оценка? Да просто потому, что этот «серьёзный и тонкий мыслитель» имеет честь представлять в своём лице Дюринга XVIII века. Юм служит г-ну Дюрингу фактическим доказательством того, что
«создание целой отрасли науки» (политической экономии) «было делом более просвещённой философии».
Точно так же г-н Дюринг видит в Юме, которого он рассматривает как своего предшественника, наилучшую гарантию того, что вся эта отрасль науки найдёт своё ближайшее завершение в том феноменальном муже, который превратил философию, всего лишь «более просвещённую», в абсолютно лучезарную философию действительности и у которого, совсем как у Юма,
«занятие философией в более тесном смысле сочетается с научными трудами в области вопросов народного хозяйства… — явление до сих пор беспримерное на немецкой почве».
Сообразно с этим, мы видим, что г-н Дюринг раздувает роль — почтенного всё-таки как экономиста — Юма и превращает его в экономическую звезду первой величины, значение которой могла игнорировать до сих пор только та же зависть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и труды г-на Дюринга, «имеющие руководящее значение для эпохи».
Как известно, школа физиократов оставила нам в «Экономической таблице» Кенэ 182 загадку, о которую безрезультатно обломали себе зубы все принимавшиеся за неё до сих пор критики и историки политической экономии. Эта таблица, которая должна была в ясной и наглядной форме выразить представление физиократов о производстве и обращении совокупного богатства страны, осталась довольно-таки тёмной для следующих поколений экономистов. Г-н Дюринг берётся внести свет окончательной истины и в эту область.
«Какой смысл это экономическое отражение отношений производства и распределения имеет у самого Кенэ», — говорит он, — это можно установить лишь в том случае, если «предварительно подвергнуть точному исследованию характерные для него руководящие понятия». Такое предварительное исследование тем более необходимо, что до сих пор эти понятия излагались лишь в «расплывчатой и неопределённой форме», и даже у Адама Смита «нельзя распознать их существенных черт».
С этим традиционным «легковесным изложением» г-н Дюринг берётся покончить раз навсегда. И вот он издевается над читателем на протяжении целых пяти страниц, где всякого рода напыщенные обороты, постоянные повторения и преднамеренный беспорядок должны скрыть тот прискорбный факт, что о «руководящих понятиях» Кенэ г-н Дюринг едва в состоянии сообщить нам столько, сколько сообщают «самые ходячие компилятивные учебники», против которых он так неустанно предостерегает своих читателей. «Одной из сомнительнейших сторон» этой вводной части является то, что уже и здесь г-н Дюринг начинает обнюхивать известную нам пока лишь по названию таблицу, а затем предаётся всякого рода «размышлениям»,— например, относительно «различия между затратой и результатом». Если этого различия «нельзя найти в готовом виде в идее Кенэ», то г-н Дюринг даст нам зато блистательный образчик такого различия, как только он после своей растянутой вводной «затраты» перейдёт к своему удивительно куцему «результату», к разъяснению самой таблицы. Итак, приведём сейчас всё, и притом буквально всё, что он счёл за благо сообщить нам о таблице Кенэ.
В «затрате» г-н Дюринг говорит:
«Ему» (Кенэ) «казалось чем-то само собой разумеющимся, что доход» (г-н Дюринг только что говорил о чистом продукте) «надо рассматривать и трактовать как денежную стоимость… Он связал свои размышления» (!) «сразу же с денежными стоимостями, которые предположил как результат продажи всех сельскохозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом» (!), «он оперирует в столбцах своей таблицы несколькими миллиардами» (т. е. денежными стоимостями).
Итак, мы трижды узнаём, что Кенэ оперирует в таблице «денежными стоимостями» «сельскохозяйственных продуктов», включая сюда денежную стоимость «чистого продукта», или «чистого дохода». Далее, мы читаем у г-на Дюринга:
«Если бы Кенэ пошёл по пути действительно естественного способа рассмотрения и оставил в стороне не только благородные металлы и количество денег, но и денежные стоимости… Но Кенэ оперирует одними только суммами стоимости и заранее мыслил себе» (!) «чистый продукт как денежную стоимость».
Итак, в четвёртый и пятый раз: в таблице мы имеем дело только с денежными стоимостями!
«Он» (Кенэ) «получил его» (чистый продукт), «вычтя издержки и думая» (!) «главным образом» (изложение хотя и не традиционное, но зато тем более легковесное) «о той стоимости, которая достаётся земельному собственнику в качестве ренты».
Мы всё ещё топчемся на месте, но вот сейчас двинемся вперёд:
«С другой стороны, однако же ещё» (это «однако же ещё» настоящий перл!) «чистый продукт тоже вступает как натуральный предмет в обращение и становится таким образом элементом, который… должен служить… для содержания класса, именуемого бесплодным. Здесь можно тотчас» (!) «заметить путаницу, возникающую оттого, что в одном случае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в другом — самой вещью».
Вообще всякое товарное обращение страдает, по-видимому, той «путаницей», что товары вступают в него одновременно и как «натуральный предмет», и как «денежная стоимость». Но мы всё ещё вертимся вокруг да около «денежных стоимостей», ибо
«Кенэ хочет избежать двойного счёта народнохозяйственного дохода».
Заметим, с разрешения г-на Дюринга: в написанном самим Кенэ «Анализе Экономической таблицы» 183 после формулы таблицы фигурируют различные роды продуктов как «натуральные предметы», а выше, в самой таблице — их денежные стоимости. Кенэ даже предложил потом своему подручному, аббату Бодо, внести натуральные предметы рядом с их денежными стоимостями прямо в самоё таблицу 184.
После стольких «затрат» следует, наконец, «результат». Слушайте и удивляйтесь:
«Однако непоследовательность» (относительно роли, которую Кенэ отводит земельным собственникам) «тотчас становится ясной, как только мы задаём вопрос: что же происходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты? Здесь для способа представления физиократов и для экономической таблицы возможны были лишь доходящая до мистицизма путаница и произвол».
Конец — делу венец. Итак, г-н Дюринг не знает, «что же происходит в народнохозяйственном кругообороте» (изображаемом таблицей) «с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты». Таблица для него — «квадратура круга». Он, по собственному признанию, не понимает азбуки физиократии. После всего хождения вокруг да около, после всего толчения воды в ступе, прыжков вкривь и вкось, арлекинад, эпизодических вставок, отступлений, повторений и умопомрачительных вывертов, которые должны были только подготовить нас к грандиозному разъяснению того, «какой смысл имеет таблица у самого
Кенэ», в заключение — стыдливое признание г-на Дюринга, что он сам этого не знает.
Стряхнув с себя, наконец, эту гнетущую тайну, эту Горациеву чёрную заботу 185, сидевшую у него за спиной во время рейда по физиократической стране, наш «серьёзный и тонкий мыслитель» снова бодро трубит:
«Линии, которые Кенэ проводит туда и сюда в своей довольно простой» (!), «впрочем, таблице» (этих линий всего-навсего пять!) «и которые должны изображать обращение чистого продукта», наводят на подозрение, не скрыта ли «в этих причудливых соединениях столбцов» какая-нибудь математическая фантастика; они напоминают о том, что Кенэ занимался проблемой квадратуры круга, и т. д.
Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остаются, по собственному признанию г-на Дюринга, непонятными для него, то он обязательно должен, воспользовавшись и здесь своим излюбленным приёмом, взять их под подозрение. И теперь он может спокойно прикончить неприятную для него таблицу:
«Рассмотрев учение о чистом продукте с этой сомнительнейшей стороны», и т. д.
Именно своё вынужденное признание, что он ничего не смыслит в «Экономической таблице» и что ему непонятна та «роль», которую играет фигурирующий там чистый продукт, — г-н Дюринг называет «сомнительнейшей стороной в учении о чистом продукте»! Вот, поистине, юмор отчаяния!
Для того чтобы наши читатели не остались, однако, в том же ужасающем неведении насчёт таблицы Кенэ, в каком по необходимости пребывают люди, черпающие свою экономическую мудрость из «первых рук» от г-на Дюринга, мы заметим вкратце следующее *.
Как известно, общество делится у физиократов на три класса: 1) производительный, т. е. действительно занятый в земледелии класс — фермеры и сельскохозяйственные рабочие; производительными они именуются потому, что их труд даёт избыток — ренту; 2) класс, присваивающий этот избыток; в этот класс входят земельные собственники и зависимая от них челядь, государь и вообще оплачиваемые государством чиновники и, наконец, церковь в её особой роли присвоителя десятины; краткости ради мы в дальнейшем будем обозначать первый класс просто как «фермеров», а второй — как «земельных собственников»; 3) промышленный, или стерильный (бесплодный)
класс, — бесплодный потому, что с физиократической точки зрения он прибавляет к сырью, которое ему доставляет производительный класс, лишь столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизненных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Кенэ имеет своей задачей наглядно изобразить, каким образом совокупный годовой продукт какой-нибудь страны (фактически Франции) циркулирует между этими тремя классами и как он служит для годового воспроизводства.
Первая предпосылка таблицы заключается в предположении, что повсеместно введена арендная система, а вместе с ней и крупное земледелие в том значении, какое имели эти слова во времена Кенэ; причём образцом для Кенэ являются Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции. Фермер выступает поэтому как действительный руководитель земледелия, он представляет в таблице весь производительный (земледельческий) класс и выплачивает земельному собственнику ренту деньгами. Всей совокупности фермеров приписывается основной капитал, или инвентарь, в десять миллиардов ливров, на которые приходится одна пятая часть, или два миллиарда, оборотного капитала, подлежащего возмещению ежегодно, — расчёт, для которого послужили мерилом опять-таки наилучшие фермы упомянутых провинций.
Дальнейшие предпосылки таковы: 1) простоты ради, цены предполагаются постоянными, а воспроизводство простым; 2) исключается всякое обращение, происходящее целиком в пределах одного класса, и принимается в расчёт только обращение между различными классами; 3) все покупки и, соответственно, все продажи, имеющие место в течение производственного года между каждыми двумя из трёх классов, складываются в единую совокупную сумму. Наконец, следует помнить, что во времена Кенэ во Франции, как в большей или меньшей степени во всей Европе, собственная домашняя промышленность крестьянской семьи доставляла ей значительнейшую часть тех необходимых для жизни продуктов, которые не принадлежат к разряду предметов питания; поэтому-то домашняя промышленность предполагается здесь как сама собой разумеющаяся принадлежность земледелия.
Исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, валовой продукт земледелия за 12 месяцев, фигурирующий поэтому сразу же на самом верхнем месте таблицы, или «воспроизводство в целом» какой-нибудь страны, в данном случае Франции. Величина стоимости этого валового продукта определяется в соответствии со средними ценами произведений почвы у торговых наций. Она составляет пять миллиардов ливров —
сумму, которая при возможных тогда статистических расчётах приблизительно выражала денежную стоимость валового сельскохозяйственного продукта Франции. Как раз это обстоятельство, а не что-либо иное, является причиной того, что Кенэ в своей таблице «оперирует несколькими миллиардами» турских ливров — именно пятью миллиардами, — а не пятью турскими ливрами 186.
Весь валовой продукт, стоимостью в пять миллиардов, находится, таким образом, в руках производительного класса, т. е. прежде всего фермеров, которые произвели его путём израсходования годового оборотного капитала в два миллиарда, соответствующего основному капиталу в десять миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные средства, сырые материалы и т. д., которые требуются для возмещения оборотного капитала, стало быть, в том числе и для поддержания жизни всех непосредственно занятых в земледелии лиц, изымаются in natura * из совокупного урожая и расходуются для нового сельскохозяйственного производства. Так как предполагаются, как уже было сказано выше, постоянные цены и простое воспроизводство в однажды установленном масштабе, то денежная стоимость этой заранее изымаемой из валового продукта части равна двум миллиардам ливров. Следовательно, эта часть не вступает в общее обращение, ибо, как уже было замечено, из таблицы исключено обращение, происходящее в пределах каждого отдельного класса, а не между различными классами.
По возмещении оборотного капитала из валового продукта остаётся избыток в три миллиарда, из которых два заключаются в жизненных средствах, а один — в сырых материалах. Но рента, которую фермеры должны платить земельным собственникам, составляет только две трети этой суммы, равные двум миллиардам. Почему только эти два миллиарда фигурируют под рубрикой «чистого продукта», или «чистого дохода», мы скоро увидим.
Но кроме сельскохозяйственного «воспроизводства в целом», стоимостью в пять миллиардов, из которых три миллиарда вступают в общее обращение, в руках фермеров находятся, — ещё до начала движения, изображённого в таблице, — все «сбережения» [«pécule»] нации, два миллиарда наличных денег. С ними дело обстоит следующим образом.
Так как исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, то он образует вместе с тем конечный пункт истёкшего хозяйственного года, — скажем, 1758 года, — после которого начинается новый хозяйственный год. В течение этого нового,
* — в натуральной форме. Ред.
1759 года та часть валового продукта, которая предназначена для обращения, распределяется путём целого ряда отдельных платежей, покупок и продаж среди двух других классов. Эти следующие друг за другом, раздробленные и растягивающиеся на целый год движения суммируются, однако, — как это безусловно необходимо было для таблицы, — в немногие характерные акты, каждый из которых охватывает целый год сразу. Таким образом, в конце 1758 года к классу фермеров притекают обратно те деньги, которые он уплатил землевладельцам в качестве ренты за 1757 год (как это происходит, покажет сама таблица), а именно — сумма в два миллиарда, так что класс фермеров может снова пустить её в обращение в 1759 году. Так как эта сумма, по замечанию Кенэ, значительно больше той, какая для всего обращения страны (Франции) требуется в реальной действительности, где платежи всегда дробятся и производятся многократно, небольшими суммами, — то два миллиарда ливров, находящиеся в руках фермеров, представляют всю сумму денег, обращающихся среди нации.
Класс загребающих ренту земельных собственников в первую очередь выступает, как это при случае происходит ещё и ныне, в роли получателя платежей. Согласно предположению Кенэ, земельные собственники в тесном смысле слова получают только четыре седьмых двухмиллиардной ренты, две же седьмых поступают правительству, а одна седьмая — получателям церковной десятины. Во времена Кенэ церковь была самым крупным земельным собственником во Франции и получала сверх того десятину со всей прочей земельной собственности.
Оборотный капитал (avances annuelles *), расходуемый «бесплодным» классом в продолжение всего года, состоит из сырья, стоимостью в один миллиард, — только из сырья, ибо орудия, машины и т. д. относятся к числу изделий самого этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные изделия в промышленном производстве бесплодного класса, так же не принимаются в расчёт таблицей, как не принимается в расчёт товарное и денежное обращение, происходящее исключительно в пределах этого класса. Вознаграждение за тот труд, посредством которого бесплодный класс превращает сырьё в промышленные товары, равняется стоимости жизненных средств, получаемых бесплодным классом частью непосредственно от производительного класса, частью косвенным путём, через земельных собственников. Хотя бесплодный класс сам распадается на капиталистов и наёмных рабочих, однако он, согласно основному
* — ежегодные авансы. Ред.
воззрению Кенэ, находится как один совокупный класс в наёмном услужении у производительного класса и земельных собственников. Вся промышленная продукция, а следовательно, и всё её обращение, распределяющееся на следующий за урожаем год, тоже суммируется в одно целое. Предполагается поэтому, что в начале изображаемого в таблице движения продукт годового товарного производства бесплодного класса находится полностью в его руках, — предполагается, следовательно, что весь его оборотный капитал, т. е. сырой материал стоимостью в один миллиард, превращён в товары стоимостью в два миллиарда, из которых половина представляет цену жизненных средств, потреблённых в период этого превращения. Здесь можно было бы возразить: но ведь бесплодный класс потребляет для своих собственных домашних нужд также и промышленные изделия, — где же они фигурируют, раз весь продукт бесплодного класса переходит путём обращения к другим классам? На это мы получаем ответ: бесплодный класс не только потребляет сам часть своих собственных товаров, но старается ещё удержать у себя сверх того возможно большее количество их. Он продаёт поэтому пускаемые им в обращение товары выше действительной стоимости и должен это делать, так как мы учитываем эти товары по совокупной стоимости производства всех их, вместе взятых. Это обстоятельство не вносит, однако, никаких изменений в положения таблицы, ибо остальные два класса могут получить промышленные товары, только уплатив стоимость их совокупного производства.
Итак, мы знаем теперь экономическое положение трёх различных классов в начале движения, изображаемого таблицей.
Производительный класс, возместив в натуре свой оборотный капитал, располагает ещё валовым сельскохозяйственным продуктом стоимостью в три миллиарда и двумя миллиардами денег. Класс земельных собственников фигурирует пока ещё только со своим притязанием на ренту в два миллиарда, которую он должен получить от производительного класса. Бесплодный класс располагает на два миллиарда промышленными товарами. Обращение, совершающееся только между двумя из этих трёх классов, именуется у физиократов неполным; обращение, совершающееся между всеми тремя классами, называется полным.
Теперь перейдём к самой экономической таблице.
Первое (неполное) обращение. Фермеры платят земельным собственникам деньгами причитающуюся им ренту в два миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные
средства у фермеров, к которым притекает, таким образом, обратно половина денег, израсходованных ими на уплату ренты.
В своём «Анализе Экономической таблицы» Кенэ не говорит больше ни о государстве, получающем две седьмых, ни о церкви, получающей одну седьмую земельной ренты, так как их общественные роли общеизвестны. Относительно земельных собственников в тесном смысле слова он замечает, что их расходы, куда входят также расходы всей их челяди, по крайней мере в большей своей части представляют собой бесплодные расходы, за исключением той небольшой доли, которая затрачивается на «поддержание и улучшение их имений и на поднятие культуры последних». Но настоящая функция земельных собственников, согласно «естественному праву», и заключается, по мнению Кенэ, именно «в заботе о хорошем управлении и в производстве затрат на поддержание их вотчин» 187, или, как это разъясняется дальше, в avances foncières, т. е. в затратах для подготовки почвы и снабжения ферм всем необходимым инвентарём, что позволяет фермеру употреблять весь свой капитал исключительно на ведение действительного сельскохозяйственного производства.
Второе (полное) обращение. На второй миллиард денег, который находится ещё в их руках, земельные собственники покупают промышленные товары у бесплодного класса, а этот последний при помощи вырученных таким путём денег приобретает у фермеров жизненные средства на такую же сумму.
Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у бесплодного класса на один миллиард денег соответствующее количество промышленных товаров; значительная часть этих товаров состоит из земледельческих орудий и других необходимых для сельского хозяйства средств производства. Бесплодный класс возвращает фермерам те же деньги, покупая на один миллиард сырьё для возмещения своего собственного оборотного капитала. Таким образом, к фермерам вернулись обратно израсходованные ими на уплату ренты два миллиарда денег, и расчёт готов. Этим разрешается также великая загадка: «что же происходит в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты?».
Мы видели выше, что в самом начале процесса в руках производительного класса имеется избыток в три миллиарда. Из него были уплачены земельным собственникам, как чистый продукт в виде ренты, только два миллиарда. Третий миллиард избытка образует процент на весь основной капитал фермеров, следовательно на десять миллиардов — десять процентов. Этот
процент они получают, — заметим это, — не из обращения: он находится в их руках in natura, и они только реализуют его при посредстве обращения, превращая его этим путём в промышленные товары равной стоимости.
Без этого процента фермер, этот главный агент земледелия, не авансировал бы ему своего основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермером той доли сельскохозяйственного прибавочного дохода, которая представляет процент, является, по мысли физиократов, столь же необходимым условием воспроизводства, как и сам фермерский класс; и эту составную часть нельзя, следовательно, причислять к категории национального «чистого продукта», или «чистого дохода»; последний характеризуется именно тем, что он может быть потреблён, нисколько не считаясь с непосредственными нуждами национального воспроизводства. Между тем указанный миллиардный фонд служит, согласно Кенэ, большей частью для необходимого в течение года ремонта и частичных обновлений основного капитала, далее — как резервный фонд против несчастных случаев, наконец, в меру возможности, — для увеличения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения обрабатываемых земель.
Весь процесс, конечно, «довольно прост». В обращение были брошены: фермерами — два миллиарда деньгами для уплаты ренты и на три миллиарда продуктов, из них две трети — жизненные средства и одна треть — сырьё; бесплодным классом — промышленные товары на два миллиарда. Из жизненных средств стоимостью в два миллиарда одна половина потребляется классом земельных собственников со всеми его придатками, другая бесплодным классом в оплату его труда. Сырьё на один миллиард возмещает оборотный капитал того же класса. Из находящихся в обращении промышленных товаров на сумму в два миллиарда одна половина достаётся земельным собственникам, другая — фермерам, для которых она является лишь превращённой формой процента на их основной капитал, — процента, получаемого ими непосредственно из сельскохозяйственного воспроизводства. Деньги же, которые фермер пустил в обращение, уплатив ренту, притекают к нему обратно благодаря продаже его продуктов, и, таким образом, тот же кругооборот может быть проделан вновь в следующем хозяйственном году.
А теперь пусть читатель восхищается «действительно критическим» изложением г-на Дюринга, столь бесконечно превосходящим «традиционное легковесное изложение». После того как он пять раз подряд с таинственным видом указывал нам на
сомнения, возбуждаемые тем, что Кенэ оперирует в таблице одними денежными стоимостями, — что вдобавок оказалось неправдой, — он приходит в конце концов к выводу, что стоит ему задать вопрос, «что же происходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты», и «для экономической таблицы возможны лишь доходящая до мистицизма путаница и произвол». Мы видели, что таблица, — это столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства, опосредствуемого обращением, — очень точно отвечает на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народнохозяйственном кругообороте. Таким образом, «мистицизм» вместе с «путаницей и произволом» остаются опять-таки исключительно достоянием г-на Дюринга как «сомнительнейшая сторона» и единственный «чистый продукт» его физиократических исследований.
С исторической ролью физиократов г-н Дюринг знаком не лучше, чем с их теорией.
«Вместе с Тюрго», — поучает он, — «физиократия пришла во Франции и практически, и теоретически к своему концу».
То, что Мирабо по своим экономическим воззрениям был по существу физиократом; то, что он был первым авторитетом по экономическим вопросам в Учредительном собрании 1789 года; то, что это собрание в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических положений из теории в практику и, в частности, обложило высоким налогом земельную ренту, этот чистый продукт, который «без даваемой взамен этого работы» присваивают землевладельцы, — всё это не существует для «некоего» Дюринга. —
Подобно тому как г-н Дюринг, одним размашистым росчерком пера зачеркнув период с 1691 по 1752 г., устранил с пути всех предшественников Юма, — так он другим росчерком пера устранил сэра Джемса Стюарта, занимающего место между Юмом и Адамом Смитом. О его большом сочинении, которое, не говоря уже о его значении для истории науки, прочно обогатило область политической экономии 188, мы не находим в «предприятии» г-на Дюринга ни единого звука. Зато г-н Дюринг награждает Стюарта самым крепким бранным словом, какое только имеется в его лексиконе, — он говорит, что Стюарт был во времена Адама Смита «профессором». К сожалению, это подозрение — чистая выдумка. В действительности Стюарт был крупным шотландским землевладельцем. Будучи изгнан из Великобритании за предполагаемое участие в заговоре
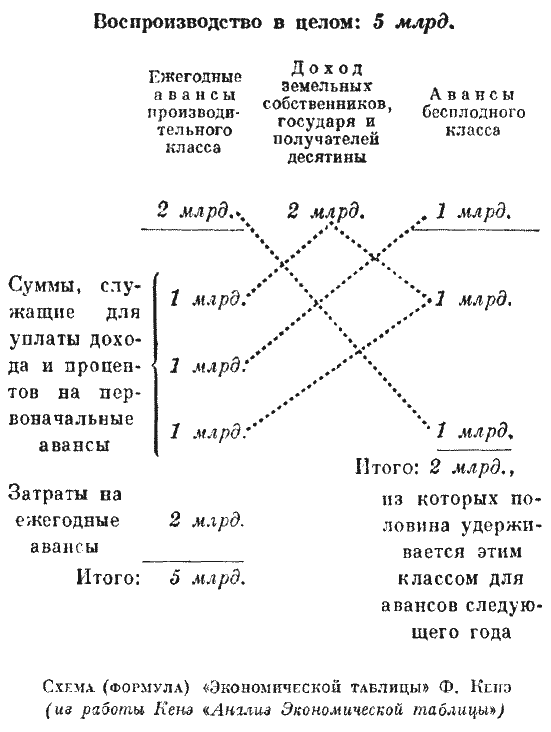
в пользу Стюартов, он благодаря своему продолжительному пребыванию на континенте, где он много путешествовал, близко познакомился с экономическими условиями различных стран.
Коротко говоря: согласно «Критической истории», значение всех прежних экономистов сводится либо к тому, что их учение представляет как бы «зачатки» более глубоких, «руководящих» основоположений г-на Дюринга, либо к тому, что они своей негодностью только и оттеняют настоящим образом его превосходство. Но всё же и в экономической науке существует несколько героев, дающих не только «зачатки» для «более глубокого основоположения», но и «теоремы», из которых это основоположение, согласно предписанию дюринговской натурфилософии, не «развивается», а прямо-таки «компонируется». К ним относятся: «несравненно выдающаяся величина» — Лист, который на потребу немецких фабрикантов раздул в «более мощные» слова «более тонкие» меркантилистские учения некоего Ферье и других; затем Кэри, обнаруживающий откровенную суть своей мудрости в следующей фразе:
«Система Рикардо — это система раздора… Она имеет тенденцию порождать вражду между классами… Его книга — настоящее руководство для демагога, стремящегося к власти посредством аграрных реформ, войны и грабежа» 189;
наконец, напоследок, Конфуций * лондонского Сити — Маклеод.
Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем обозримом будущем захотели бы изучать историю политической экономии, поступят всё же гораздо благоразумнее, если они познакомятся с «водянистыми произведениями», с «плоскими мыслишками» и «жиденькой нищенской похлёбкой» «самых ходячих компилятивных учебников», чем если они положатся на «историографию в высоком стиле» г-на Дюринга.
Что же в конце концов получается в результате нашего анализа дюринговской «самобытной системы» политической экономии? Единственный результат состоит в том, что после всех больших слов и ещё более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как и в «философии». В теории стоимости — этом «пробном камне для определения достоинства экономических систем» — дело свелось к тому, что под стоимостью г-н Дюринг понимает пять совершенно различных вещей, находящихся в кричащем противоречии друг к другу,
* В немецких изданиях «Анти-Дюринга» вместо слова «Confucius», которое стоит в рукописи Х главы, написанной Марксом, напечатано созвучное слово «Confusius» («путаник»). Ред.
и, следовательно, в лучшем случае, не знает сам, чего хочет. Возвещённые с такой помпой «естественные законы всякого хозяйства» оказались общеизвестными и часто даже неправильно формулированными банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, которое нам преподносит эта «самобытная система», состоит в том, что они являются результатом «насилия», — фраза, которой филистер всех наций утешает себя в течение тысячелетий во всех своих злоключениях и после которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до неё. Вместо того чтобы исследовать происхождение и последствия этого насилия, г-н Дюринг предлагает нам, чтобы мы с благодарностью успокоились на одном слове «насилие» как конечной, последней причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать дальнейшие разъяснения относительно капиталистической эксплуатации труда, он сначала изображает её в общем виде как основанную на обложении данью и на надбавке к цене, усваивая себе здесь полностью прудоновскую концепцию «устанавливаемого заранее начисления» (prélèvement) 189a, чтобы затем, переходя от общего к частному, объяснять ту же эксплуатацию при помощи Марксовой теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухитряется, таким образом, благополучно примирить два прямо противоречащих друг другу воззрения, единым духом списывая и то, и другое. И подобно тому, как он не находил в своей философии достаточно грубых выражений для того самого Гегеля, идеями которого он пользуется, неизменно разжижая и опошляя их, так и в «Критической истории» разнузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что всё сколько-нибудь рациональное, содержащееся в «Курсе» по вопросу о капитале и труде, составляет — тоже разжиженный и опошленный — плагиат у Маркса. В «Курсе» невежество автора доходит до того, что в начале истории культурных народов он ставит «крупного землевладельца», ни словом не обмолвившись относительно общности земельной собственности родовых и сельских общин, являющейся в действительности исходным пунктом всей истории. Это невежество почти непостижимо в наши дни. Но оно, пожалуй, ещё превзойдено тем невежеством, которое в «Критической истории» немало кичится собой как «универсальной широтой исторического кругозора» и для иллюстрации которого мы привели лишь несколько ужасающих примеров. Одним словом: вначале — колоссальная «затрата» самовосхваления, крикливой базарной рекламы, обещаний, превосходящих одно другое, а затем «результат» — круглый нуль.