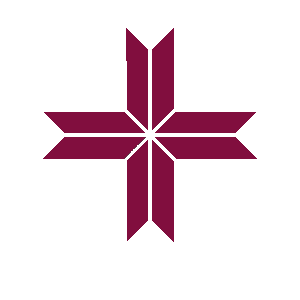Г. В. Плеханов
К вопросу о роли личности в истории
Источник: Плеханов, Г.В. Избранные философские произведения в 5-ти тт. Т. 2. М., 1956, стр. 300–334.
I
Во второй половине семидесятых годов покойный Каблиц написал статью «Ум и чувство, как факторы прогресса» 1, в которой, ссылаясь на Спенсера, доказывал, что в поступательном движении человечества главная роль принадлежит чувству, а ум играет второстепенную и к тому же совершенно подчинённую роль. Каблицу возражал один «почтенный социолог» 2, выразивший насмешливое удивление по поводу теории, ставившей ум «на запятки». «Почтенный социолог» был, разумеется, прав, защищая ум. Однако он был бы гораздо более прав, если бы, не касаясь сущности поднятого Каблицем вопроса, показал, до какой степени невозможна и непозволительна была самая его постановка. В самом деле, теория «факторов» неосновательна уже и сама по себе, так как она произвольно выделяет различные стороны общественной жизни и ипостазирует их, превращая их в особого рода силы, с разных сторон и с неодинаковым успехом влекущие общественного человека по пути прогресса. Но ещё более неосновательна эта теория в том виде, какой она получила у Каблица, превращавшего в особые социологические ипостаси уже не те или другие стороны деятельности общественного человека, а различные области индивидуального сознания. Это поистине геркулесовы столбы абстракции; дальше идти некуда, потому что дальше начинается комическое царство вполне уже очевидного абсурда. Вот на это-то и следовало «почтенному социологу» обратить внимание Каблица и его читателей. Обнаружив, в какие дебри абстракция завело Каблица стремление найти господствующий «фактор» в истории, «почтенный социолог», может быть, невзначай сделал бы кое-что и для критики самой теории факторов. Это было бы очень полезно всем нам в то время. Но он оказался не на высоте
призвания. Он сам стоял на точке зрения той же теории, отличаясь от Каблица лишь склонностью к эклектизму, благодаря которому все «факторы» казались ему одинаково важными. Эклектические свойства его ума особенно ярко выразились впоследствии в нападках его на диалектический материализм, в котором он увидел учение, жертвующее экономическому «фактору» всеми другими и сводящее к нулю роль личности в истории. «Почтенному социологу» и в голову не приходило, что диалектический материализм чужд точки зрения «факторов» и что только при полной неспособности к логическому мышлению можно видеть в нём оправдание так называемого квиетизма 3. Надо заметить, впрочем, что в этом промахе «почтенного социолога» нет ничего оригинального: его делали, делают и, вероятно, долго ещё будут делать многие и многие другие…
Материалистов стали упрекать в склонности к «квиетизму» уже тогда, когда у них ещё не выработался диалектический взгляд на природу и на историю. Не уходя «в глубь времён», мы напомним спор известного английского учёного Пристлея с Прайсом 4. Разбирая учение Пристлея, Прайс доказывал, между прочим, что материализм несогласен с понятием о свободе и устраняет всякую самодеятельность личности. В ответ на это Пристлей сослался на житейский опыт. «Я не говорю о самом себе, — писал он, — хотя, конечно, и меня нельзя назвать самым неподвижным и безжизненным из всех животных (am not the most torpid and lifeless of all animals), но я спрашиваю вас: где вы найдёте больше энергии мысли, больше активности, больше силы и настойчивости в преследовании самых важных целей, чем между последователями учения о необходимости?» Пристлей имел в виду религиозную демократическую секту так называвшихся тогда Christian necessarians * 5. He знаем, точно ли она была так деятельна, как это думал принадлежавший к ней Пристлей. Но это и не важно. Не подлежит никакому сомнению то обстоятельство, что материалистический взгляд на человеческую волю прекрасно уживается с самой энергичной деятельностью на практике. Лансон замечает, что «все доктрины, обращавшиеся с наибольшими требованиями к человеческой воле, утверждали в принципе бессилие воли; они отрицали свободу и подчиняли мир фатализму» **. Лансон неправ, думая, что всякое отрицание так называемой свободы воли приводит
* [христиан-нецессарианцев].
Француза XVIII века очень удивило бы такое сочетание материализма с религиозной догматикой. В Англии оно никому не казалось странным. Пристлей сам был очень религиозным человеком. Что город, то норов.
** См. русский перевод его «Истории французской литературы», т. I, стр. 511.
к фатализму; но это не помешало ему подметить в высшей степени интересный исторический факт: в самом деле, история показывает, что даже фатализм не только не всегда мешает энергическому действию на практике, но, напротив, в известные эпохи был психологически необходимой основой такого действия. В доказательство сошлёмся на пуритан, далеко превзошедших своей энергией все другие партии в Англии XVII века 6, и на последователей Магомета, в короткое время покоривших своей власти огромную полосу земли от Индии до Испании. Очень ошибаются те, по мнению которых стоит нам только убедиться в неизбежном наступлении данного ряда событий, чтобы у нас исчезла всякая психологическая возможность содействовать или противодействовать ему *.
Тут всё зависит от того, составляет ли моя собственная деятельность необходимое звено в цепи необходимых событий. Если да, то тем меньше у меня колебаний и тем решительнее я действую. И в этом нет ничего удивительного: когда мы говорим, что данная личность считает свою деятельность необходимым звеном в цепи необходимых событий, это значит, между прочим, что отсутствие свободы воли равносильно для неё совершенной неспособности к бездействию и что оно, это отсутствие свободы воли, отражается в её сознании в виде невозможности поступать иначе, чем она поступает. Это именно то психологическое настроение, которое может быть выражено знаменитыми словами Лютера: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders» **, и благодаря которому люди обнаруживают самую неукротимую энергию, совершают самые поразительные подвиги. Это настроение было неизвестно Гамлету: оттого он и был способен только ныть да рефлектировать. И оттого Гамлет никогда не помирился бы с философией, по смыслу которой свобода есть лишь необходимость, перешедшая в сознание. Фихте справедливо сказал: «каков человек, такова и его философия».
* Известно, что, по учению Кальвина, все поступки людей предопределены богом. Praedestinationem vocamur aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine fieri valet. [Предопределением мы называем определённое навеки богом, установленное им в отношении себя, что также имеет силу по отношению к отдельному человеку.] (Institutio, lib. III, cap. 5 [Наставление, кн. III, гл. 5].) По этому же учению, бог избирает некоторых из своих служителей для освобождения несправедливо угнетённых народов. Таков был, например, Моисей, освободитель израильского народа. По всему видно, что таким же орудием бога считал себя и Кромвель; он всегда и, вероятно, в силу совершенно искреннего убеждения называл свои действия плодом воли божьей. Все эти действия были наперёд окрашены для него в цвет необходимости. Это не только не мешало ему стремиться от победы к победе, но придавало этому его стремлению неукротимую силу.
** [«На этом я стою и не могу иначе»]
II
Некоторые приняли у нас всерьёз замечание Штаммлера насчёт будто бы неразрешимого противоречия, якобы свойственного одному из западноевропейских социально-политических учений. Мы имеем в виду его пример лунного затмения. На самом деле это архинелепый пример. В число тех условий, сочетание которых необходимо для лунного затмения, человеческая деятельность никаким образом не входит и входить не может, и уже по одному этому партия для содействия лунному затмению могла бы возникнуть только в сумасшедшем доме. Но если бы человеческая деятельность и входила в число названных условий, то в партию лунного затмения не вошёл бы никто из тех, которые, очень желая его видеть, в то же время были бы убеждены, что оно непременно совершится и без их содействия. В этом случае их «квиетизм» был бы только воздержанием от излишнего, т. е. бесполезного, действия и не имел бы ничего общего с настоящим квиетизмом. Чтобы пример лунного затмения перестал быть бессмысленным в рассматриваемом нами случае, указанной выше партии надо было бы совершенно изменить его. Надо было бы вообразить, что луна одарена сознанием и что то положение её в небесном пространстве, благодаря которому происходят её затмения, кажется ей плодом самоопределения её воли и не только доставляет ей огромное наслаждение, но и безусловно нужно для её нравственного спокойствия, вследствие чего она всегда страстно стремится занять это положение *. Вообразив всё это, надо было бы спросить себя: что почувствовала бы луна, если бы она, наконец, открыла, что в действительности не воля и не «идеалы» её определяют собою её движение в небесном пространстве, а, наоборот, её движение определяет собою её волю и её «идеалы». По Штаммлеру выходит, что такое открытие непременно сделало бы её неспособной к движению, если бы только она не выпуталась из беды посредством какого-нибудь логического противоречия. Но такое предположение решительно ни на чём не основано. Правда, это открытие могло бы явиться одним из формальных оснований дурного настроения луны, её нравственного разлада с самой собою, противоречия её «идеалов» с механической действительностью. Но так как мы предполагаем, что всё вообще «психическое состояние
* «C'est comme si l'aiguille aimantée prenait plaisir de se tourner vers le nord car elle croirait tourner indépendamment de quelque autre cause, ne s'apercevant pas des mouvements insensibles de la matière magnétique». Leibnitz, Théodicée, Lausanne MDCCLX, p. 598. [«Всё равно как если бы магнитная стрелка находила удовольствие в том, чтобы поворачиваться на север, считая, что она это делает по собственной воле, независимо от какой-либо причины, не замечая мало ощутительных действий магнетизма». Лейбниц, Теодицея, Лозанна 1760, стр. 598.]
луны» обусловливается в конце концов её движением, то в движении надо было бы искать и причины её душевного разлада. При внимательном отношении к делу оказалось бы, может быть, что, когда луна находится в апогее, она горюет о том, что её воля не свободна, а в перигее 7 это же обстоятельство является для неё новым формальным источником нравственного блаженства и нравственной бодрости. Может быть, вышло бы и наоборот: может быть, оказалось бы, что не в перигее, а в апогее находит она средство примирить свободу с необходимостью. Но как бы там ни было, несомненно, что такое примирение вполне возможно, что сознание необходимости прекрасно уживается с самым энергическим действием на практике. По крайней мере, так бывало до сих пор в истории. Люди, отрицавшие свободу воли, часто превосходили всех своих современников силой собственной воли и предъявляли к ней наибольшие требования. Таких примеров много. Они общеизвестны. Забыть о них, как забывает, по-видимому, Штаммлер, можно только при умышленном нежелании видеть историческую действительность такою, какова она есть. Подобное нежелание очень сильно, например, у наших субъективистов 8 и некоторых немецких филистеров. Но филистеры и субъективисты не люди, а простые призраки, как сказал бы Белинский.
Рассмотрим, однако, поближе тот случай, когда собственные — прошедшие, настоящие или будущие — действия человека представляются ему сплошь окрашенными в цвет необходимости. Мы уже знаем, что в этом случае человек, — считая себя посланником божьим, подобно Магомету, избранником ничем неотвратимой судьбы, подобно Наполеону, или выразителем никем непреодолимой силы исторического движения, подобно некоторым общественным деятелям XIX века, — обнаруживает почти стихийную силу воли, разрушая, как карточные домики, все препятствия, воздвигаемые на его пути Гамлетами и Гамлетиками разных уездов * 9. Но нас этот случай интересует теперь с другой, и именно вот с какой стороны. Когда сознание несвободы моей воли представляется мне лишь в виде полной субъективной и объективной невозможности поступать иначе,
* Приведём ещё один пример, наглядно показывающий, как сильны чувства людей этой категории. Герцогиня Феррарская, Ренэ (дочь Людовика XII), говорит в письме к своему учителю Кальвину: «Нет, я не забыла того, что вы мне писали: что Давид питал смертельную ненависть к врагам божьим, и я сама никогда не стану поступать иначе; ибо если бы я знала, что король, мой отец, и королева, моя мать, и покойный господин мой муж (feu monsieur mon mari), и все мои дети были отвержены богом, я возненавидела бы их смертельною ненавистью и хотела бы, чтоб они попали в ад», и т. д. Какую страшную всесокрушающую энергию способны были обнаруживать люди, питавшие такие чувства! А ведь эти люди отрицали свободу воли.
чем я поступаю, и когда данные мои действия являются в то же время наиболее для меня желательными из всех возможных действий, тогда необходимость отождествляется в моём сознании со свободой, а свобода с необходимостью и тогда я не свободен только в том смысле, что не могу нарушить это тождество свободы с необходимостью; не могу противопоставить их одну другой; не могу почувствовать себя стеснённым необходимостью. Но подобное отсутствие свободы есть вместе с тем её полнейшее проявление.
Зиммель говорит, что свобода есть всегда свобода от чего-нибудь и что там, где свобода не мыслится как противоположность связанности, она не имеет смысла. Это, конечно, так. Но на основании этой маленькой азбучной истины нельзя опровергнуть то положение, составляющее одно из гениальнейших открытий, когда-либо сделанных философской мыслью, что свобода есть сознанная необходимость. Определение Зиммеля слишком узко: оно относится только к свободе от внешнего стеснения. Пока речь идёт лишь о таких стеснениях, отождествление свободы с необходимостью было бы до последней степени комично: вор не свободен вытащить у вас из кармана носовой платок, если вы мешаете ему сделать это и пока он не преодолел так или иначе вашего сопротивления. Но кроме этого элементарного и поверхностного понятия о свободе есть другое, несравненно более глубокое. Это понятие совсем не существует для людей, неспособных к философскому мышлению, а люди, способные к такому мышлению, доходят до него только тогда, когда им удаётся разделаться с дуализмом и понять, что между субъектом, с одной стороны, и объектом — с другой, вовсе не существует той пропасти, какую предполагают дуалисты.
Русский субъективист противопоставляет свои утопические идеалы нашей капиталистической действительности и не идёт дальше такого противопоставления. Субъективисты завязли в болоте дуализма. Идеалы так называемых русских «учеников» 10 несравненно менее похожи на капиталистическую действительность, чем идеалы субъективистов. Но, несмотря на это, «ученики» сумели найти мост, соединяющий идеалы с действительностью. «Ученики» возвысились до монизма. По их мнению, капитализм ходом своего собственного развития приведёт к своему собственному отрицанию и к осуществлению их — русских, да и не одних только русских, «учеников» — идеалов. Это историческая необходимость. Он, «ученик», служит одним из орудий этой необходимости и не может не служить им как по своему общественному положению, так и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этим положением. Это тоже сторона необходимости. Но раз его общественное положение выработало у него именно этот, а не другой характер,
он не только служит орудием необходимости и не только не может не служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это — сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т. е., вернее сказать, это — свобода, отождествившаяся с необходимостью, это — необходимость, преобразившаяся в свободу *. Такая свобода есть тоже свобода от некоторого стеснения; она тоже противоположна некоторой связанности: глубокие определения не опровергают поверхностных, а, дополняя их, сохраняют их в себе. Но о каком же стеснении, о какой связанности может идти речь в этом случае? Это ясно: о том нравственном стеснении, которое тормозит энергию людей, не разделавшихся с дуализмом; о той связанности, от которой страдают люди, не умевшие перекинуть мост через пропасть, разделяющую идеалы от действительности. Пока личность не завоевала этой свободы мужественным усилием философской мысли, она ещё не вполне принадлежит самой себе и своими собственными нравственными муками платит позорную дань противостоящей ей внешней необходимости. Но зато та же личность родится для новой, полной, до тех пор ей неведомой жизни, едва только она свергнет с себя иго этого мучительного и постыдного стеснения, и её свободная деятельность явится сознательным и свободным выражением необходимости **. Тогда она становится великой общественной силой, и тогда уже ничто не может помешать ей и ничто не помешает
|
Над неправдою лукавою Грянуть божьею грозой… |
III
Ещё раз: сознание безусловной необходимости данного явления может только усилить энергию человека, сочувствующего ему и считающего себя одной из сил, вызывающих это явление. Если бы такой человек сложил руки, сознав его необходимость, он показал бы этим, что плохо знает арифметику. В самом деле, положим, что явление A необходимо должно наступить, если окажется налицо данная сумма условий S. Вы доказали мне, что эта сумма частью уже есть в наличности, а частью будет
* «Die Notwendigkeit wird nicht dadurch zur Freiheit, dass sie verschwindet, sondern dass nur ihre noch innere Identität manifestiert wird». Hegel, Wissenschaft der Logik, Nürnberg 1816, zweites Buch, S. 281. [«Необходимость становится свободой не в силу того, что она исчезает, а только в силу того, что её пока ещё внутреннее тождество проявляется». Гегель, Наука логики, Нюрнберг 1816, вторая книга, стр. 281.] 11
** Тот же старый Гегель прекрасно говорит в другом месте: «Die Freiheit ist dies, Nichts zu wollen als sich». Werke, B. 12, S. 98. (Philosophie der Religion). [«Свобода есть не что иное, как утверждение самого себя». Соч., т. 12, стр. 98. (Философия религии).]
в данное время T. Убедившись в этом, я, — человек, страстно сочувствующий явлению A, — восклицаю: «Как это хорошо!», и заваливаюсь спать вплоть до радостного дня предсказанного вами события. Что же выйдет из этого? Вот что. В вашем расчёте в сумму S, необходимую для того, чтобы совершилось явление A, входила также и моя деятельность, равная, положим, a. Так как я погрузился в спячку, то в момент T сумма условий, благоприятных наступлению данного явления, будет уже не S, но S − а, что изменяет состояние дела. Может быть, моё место займёт другой человек, который тоже был близок к бездействию, но на которого спасительно повлиял пример моей апатии, показавшейся ему крайне возмутительной. В таком случае сила a будет замещена силой b, и если a равно b (а = b), то сумма условий, способствующих наступлению A, останется равной S, и явление A всё-таки совершится в тот же самый момент T. Но если мою силу нельзя признать равной нулю, если я ловкий и способный работник и если меня никто не заменил, то у нас уже не будет полной суммы S, и явление A совершится позже, чем мы предполагаем, или не в той полноте, какой мы ожидали, или даже совсем не совершится. Это ясно, как день, и если я не понимаю этого, если я думаю, что S останется S и после моей измены, то единственно потому, что не умею считать. Да и один ли я не умею считать? Вы, предсказывавший мне, что сумма S непременно будет налицо в момент T, не предвидели, что я лягу спать сейчас же после моей беседы с вами; вы были уверены, что я до конца останусь хорошим работником; вы приняли менее надёжную силу за более надёжную. Следовательно, вы тоже плохо сосчитали. Но предположим, что вы ни в чём не ошиблись, что вы всё приняли в соображение. Тогда ваш расчёт примет такой вид: вы говорите, что в момент T сумма S будет налицо. В эту сумму условий войдёт, как отрицательная величина, моя измена; сюда же войдёт, как величина положительная, и то ободряющее действие, которое производит на людей, сильных духом, уверенность в том, что их стремления и идеалы являются субъективным выражением объективной необходимости. В таком случае сумма S действительно окажется налицо в означенное вами время, и явление A совершится. Кажется, что это ясно. Но если ясно, то почему же, собственно, меня смутила мысль о неизбежности явления A? Почему мне показалось, что она осуждает меня на бездействие? Почему, рассуждая о ней, я позабыл самые простые правила арифметики? Вероятно, потому, что по обстоятельствам моего воспитания у меня уже было сильнейшее стремление к бездействию и мой разговор с вами явился каплей, переполнившей чашу этого похвального стремления. Вот только и всего. Только в этом смысле, — в смысле повода для обнаружения моей нравственной дряблости и негодности, —
и фигурировало здесь сознание необходимости. Причиной же этой дряблости его считать никак невозможно: причина не в нём, а в условиях моего воспитания. Стало быть… стало быть, — арифметика есть чрезвычайно почтенная и полезная наука, правил которой не должны забывать даже господа философы, — и даже особенно господа философы.
А как подействует сознание необходимости данного явления на сильного человека, который ему не сочувствует и противодействует его наступлению? Тут дело несколько изменяется. Очень возможно, что оно ослабит энергию его сопротивления. Но когда противники данного явления убеждаются в его неизбежности? Когда благоприятствующие ему обстоятельства становятся очень многочисленны и очень сильны. Сознание его противниками неизбежности его наступления и упадок их энергии представляют собою лишь проявление силы благоприятствующих ему условий. Такие проявления в свою очередь входят в число этих благоприятных условий.
Но энергия сопротивления уменьшится не у всех его противников. У некоторых она только возрастёт вследствие сознания его неизбежности, превратившись в энергию отчаяния. История вообще, и история России в частности, представляет немало поучительных примеров энергии этого рода. Мы надеемся, что читатель припомнит их без нашей помощи.
Тут нас прерывает г. Кареев, который хотя, разумеется, и не разделяет наших взглядов на свободу и необходимость и к тому же не одобряет нашего пристрастия к «крайностям» сильных и страстных людей, но всё-таки с удовольствием встречает на страницах нашего журнала ту мысль, что личность может явиться великой общественной силой. Почтенный профессор радостно восклицает: «Я всегда говорил это!» И это верно. Г. Кареев и все субъективисты всегда отводили личности весьма значительную роль в истории. И было время, когда это вызывало большое сочувствие к ним передовой молодёжи, стремившейся к благородному труду на общую пользу и потому, естественно, склонной высоко ценить значение личной инициативы. Но в сущности субъективисты никогда не умели не только решить, но даже и правильно поставить вопрос о роли личности в истории. Они противополагали деятельность «критически мыслящих личностей» влиянию законов общественно-исторического движения и таким образом создавали как бы новую разновидность теории факторов: критически мыслящие личности являлись одним фактором названного движения, а другим фактором служили его же собственные законы. В результате получалась сугубая несообразность, которою можно было довольствоваться только до тех пор, пока внимание деятельных «личностей» сосредоточивалось на практических злобах дня и пока им поэтому некогда
было заниматься философскими вопросами. Но с тех пор как наступившее в восьмидесятых годах затишье дало невольный досуг для философских размышлений тем, которые способны были мыслить, учение субъективистов стало трещать по всем швам и даже совсем расползаться, подобно знаменитой шинели Акакия Акакиевича. Никакие заплаты ничего не поправляли, и мыслящие люди один за другим стали отказываться от субъективизма, как от учения явно и совершенно несостоятельного. Но, как это всегда бывает в таких случаях, реакция против него привела некоторых из его противников к противоположной крайности. Если некоторые субъективисты, стремясь отвести «личности» как можно более широкую роль в истории, отказывались признать историческое движение человечества законосообразным процессом, то некоторые из их новейших противников, стремясь как можно лучше оттенить законосообразный характер этого движения, по-видимому, готовы были забыть, что история делается людьми и что поэтому деятельность личностей не может не иметь в ней значения. Они признали личность за quantité négligeable *. Теоретически такая крайность столь же непозволительна, как и та, к которой пришли наиболее рьяные субъективисты. Жертвовать тезой антитезе так же неосновательно, как и забывать об антитезе ради тезы. Правильная точка зрения будет найдена только тогда, когда мы сумеем объединить в синтезе заключающиеся в них моменты истины **.
IV
Нас давно интересует эта задача, и давно уже нам хотелось пригласить читателя взяться за неё вместе с нами. Но нас удерживали некоторые опасения: мы думали, что, может быть, наши читатели уже решили её для себя и наше предложение явится запоздалым. Теперь у нас уже нет таких опасений. Нас избавили от них немецкие историки. Мы говорим это серьёзно. Дело в том, что в течение последнего времени между немецкими историками шёл довольно горячий спор о великих людях в истории. Одни склонны были видеть в политической деятельности таких людей главную и чуть ли не единственную пружину исторического развития, а другие утверждали, что такой взгляд односторонен и что историческая наука должна иметь в виду не только деятельность великих людей и не только политическую историю, а вообще всю совокупность исторической жизни (das Ganze des geschichtlichen Lebens). Одним из представителей
* [нечто, не заслуживающее внимания]
** В стремлении к синтезу нас опередил тот же г. Кареев. Но, к сожалению, он не пошёл дальше сознания той истины, что человек состоит из души и тела.
этого последнего направления выступил Карл Лампрехт, автор «Истории немецкого народа», переведённой на русский язык г. П. Николаевым. Противники обвиняли Лампрехта в «коллективизме» и в материализме, его — horrible dictu! * — даже ставили на одну доску с «социал-демократическими атеистами», как выразился он сам в заключение спора. Когда мы ознакомились с его взглядами, мы увидели, что обвинения, выдвинутые против бедного учёного, были совершенно неосновательны. В то же время мы убедились, что нынешние немецкие историки не в состоянии решить вопрос о роли личности в истории. Тогда мы сочли себя в праве предположить, что он до сих пор остаётся нерешённым и для некоторых русских читателей и что по поводу его и теперь ещё можно сказать нечто, не совсем лишённое теоретического и практического интереса.
Лампрехт собрал целую коллекцию (eine artige Sammlung, как выражается он) взглядов выдающихся государственных людей на отношение их собственной деятельности к той исторической среде, в которой она совершалась; но в своей полемике он ограничился пока ссылкой на некоторые речи и мнения Бисмарка. Он приводит следующие слова, произнесённые железным канцлером в северно-германском рейхстаге 16 апреля 1869 года: «Мы не можем, господа, ни игнорировать историю прошлого, ни творить будущее. Мне хотелось бы предохранить вас от того заблуждения, благодаря которому люди переводят вперёд свои часы, воображая, что этим они ускоряют течение времени. Обыкновенно очень преувеличивают моё влияние на те события, на которые я опирался, но всё-таки никому не придёт в голову требовать от меня, чтобы я делал историю. Это было бы невозможно для меня даже в соединении с вами, хотя, соединившись вместе, мы могли бы сопротивляться целому миру. Но мы не можем делать историю; мы должны ожидать, пока она сделается. Мы не ускорим созревания плодов тем, что поставим под них лампу; а если мы будем срывать их незрелыми, то только помешаем их росту и испортим их». Основываясь на свидетельстве Жоли, Лампрехт приводит также мнения, не раз высказанные Бисмарком во время франко-прусской войны. Их общий смысл опять тот, что «мы не можем делать великие исторические события, а должны сообразовываться с естественным ходом вещей и ограничиваться обеспечением себе того, что уже созрело». Лампрехт видит в этом глубокую и полную истину. По его мнению, современный историк не может думать иначе, если только умеет заглянуть в глубь событий и не ограничивать своего поля зрения слишком коротким промежутком времени. Мог ли бы Бисмарк вернуть Германию к натуральному хозяйству? Это
* [страшно сказать!]
было бы невозможно для него даже в то время, когда он находился на вершине своего могущества. Общие исторические условия сильнее самых сильных личностей. Общий характер его эпохи является для великого человека «эмпирически данной необходимостью».
Так рассуждает Лампрехт, называя свой взгляд универсальным. Нетрудно заметить слабую сторону его «универсального» взгляда. Приведённые им мнения Бисмарка очень интересны как психологический документ. Можно не сочувствовать деятельности бывшего германского канцлера, но нельзя сказать, что она была ничтожна, что Бисмарк отличался «квиетизмом». Ведь это о нём говорил Лассаль: «слуги реакции не краснобаи, но дай бог, чтобы у прогресса было побольше таких слуг». И вот этот-то человек, проявлявший подчас поистине железную энергию, считал себя совершенно бессильным перед естественным ходом вещей, очевидно смотря на себя, как на простое орудие исторического развития; это ещё раз показывает, что можно видеть явления в свете необходимости и в то же время быть очень энергичным деятелем. Но только в этом отношении и интересны мнения Бисмарка; ответом же на вопрос о роли личности в истории их считать невозможно. По словам Бисмарка, события делаются сами собою, а мы можем только обеспечивать себе то, что подготовляется ими. Но каждый акт «обеспечения» тоже представляет собою историческое событие: чем же отличаются такие события от тех, которые делаются сами собою? В действительности почти каждое историческое событие является одновременно и «обеспечением» кому-нибудь уже созревших плодов предшествовавшего развития и одним из звеньев той цепи событий, которая подготовляет плоды будущего. Как же можно противопоставлять акты «обеспечения» естественному ходу вещей? Бисмарку хотелось, как видно, сказать, что действующие в истории личности и группы личностей никогда не были и никогда не будут всемогущи. Это, разумеется, не подлежит ни малейшему сомнению. Но нам всё-таки хотелось бы знать, от чего зависит их, — конечно, далеко не всемогущая, — сила, при каких обстоятельствах она растёт и при каких уменьшается. На эти вопросы не отвечает ни Бисмарк, ни цитирующий его слова учёный защитник «универсального» взгляда на историю.
Правда, у Лампрехта встречаются и более вразумительные цитаты *. Он приводит, например, следующие слова Моно, одного из самых видных представителей современной исторической науки во Франции: «Историки слишком привыкли обращать
* Не касаясь других философско-исторических статей Лампрехта, мы имели и будем здесь иметь в виду его статью «Der Ausgang des Geschichtswissenschaftlichen Kampfes», «Die Zukunft», 1897, № 44. [«Исход научно-исторических битв», «Будущее», 1897, № 44.]
исключительное внимание на блестящие, громкие и эфемерные проявления человеческой деятельности, на великие события и на великих людей, вместо того, чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно интересную и непреходящую часть человеческого развития, — ту часть, которая в известной мере может быть сведена к законам и подвергнута до известной степени точному анализу. Действительно, важные события и личности важны именно как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнём света, а потом разбиваются о песчаный берег, ничего не оставляя после себя». Лампрехт заявляет, что он готов подписаться под каждым из этих слов Моно. Известно, что немецкие учёные не любят соглашаться с французскими, а французские — с немецкими. Поэтому бельгийский историк Пирэнн с особенным удовольствием подчеркнул в «Revue historique» * это совпадение исторических взглядов Моно со взглядами Лампрехта. «Это согласие весьма многознаменательно, — заметил он. — Оно доказывает, по-видимому, что будущее принадлежит новым историческим взглядам».
V
Мы не разделяем приятных надежд Пирэнна. Будущее не может принадлежать взглядам неясным и неопределённым, а именно таковы взгляды Моно и особенно Лампрехта. Нельзя, конечно, не приветствовать то направление, которое объявляет важнейшей задачей исторической науки изучение общественных учреждений и экономических условий. Эта наука подвинется далеко вперёд, когда в ней окончательно укрепится такое направление. Но, во-первых, Пирэнн ошибается, считая это направление новым. Оно возникло в исторической науке уже в двадцатых годах XIX столетия: Гизо, Минье, Огюстен Тьерри, а впоследствии Токвилль и другие были блестящими и последовательными его представителями. Взгляды Моно и Лампрехта являются лишь слабой копией со старого, но очень замечательного оригинала. Во-вторых, как ни глубоки были для своего времени взгляды Гизо, Минье и других французских историков, в них многое осталось невыясненным. В них нет точного и полного ответа на вопрос о роли личностей в истории. А историческая наука, действительно, должна решить его, если её представителям суждено избавиться от одностороннего взгляда на свой предмет.
* [«Историческом обозрении»]
Будущее принадлежит той школе, которая даст наилучшее решение, между прочим, и этого вопроса.
Взгляды Гизо, Минье и других историков этого направления явились как реакция историческим взглядам восемнадцатого века и составляют их антитезу. В восемнадцатом веке люди, занимавшиеся философией истории, всё сводили к сознательной деятельности личностей. Были, правда, и тогда исключения из общего правила: так, философско-историческое поле зрения Вико, Монтескьё и Гердера было гораздо шире. Но мы не говорим об исключениях; огромное же большинство мыслителей восемнадцатого века смотрело на историю именно так, как мы сказали. В этом отношении очень любопытно перечитывать в настоящее время исторические сочинения, например, Мабли. У Мабли выходит, что Минос целиком создал социально-политическую жизнь и нравы критян, а Ликург оказал подобную же услугу Спарте. Если спартанцы «презирали» материальное богатство, то этим они обязаны были именно Ликургу, который «спустился, так сказать, на дно сердца своих сограждан и подавил там зародыш любви к богатствам» (descendit pour ainsi dire jusque dans le fond du coeur des citoyens etc.) *. А если спартанцы покинули впоследствии путь, указанный им мудрым Ликургом, то в этом виноват был Лизандр, уверивший их в том, что «новые времена и новые обстоятельства требуют от них новых правил и новой политики» **. Исследования, написанные с точки зрения такого взгляда, имели очень мало общего с наукой и писались как проповеди, только ради будто бы вытекающих из них нравственных «уроков». Против таких-то взглядов и восстали французские историки времён реставрации. После потрясающих событий конца XVIII века уже решительно невозможно было думать, что история есть дело более или менее выдающихся и более или менее благородных и просвещённых личностей, по своему произволу внушающих непросвещённой, но послушной массе те или другие чувства и понятия. К тому же такая философия истории возмущала плебейскую гордость теоретиков буржуазии. Тут сказались те самые чувства, которые ещё в XVIII веке обнаружились при возникновении буржуазной драмы. Тьерри употреблял в борьбе со старыми историческими взглядами, между прочим, те самые доводы, которые выдвинуты были Бомарше и другими против старой эстетики *** 12.
* См. Oeuvres complètes de l'abbé de Mably, Londres 1789, tome quatrième, p. 3, 14–22, 34 et 192. [Полное собрание сочинений аббата Мабли, Лондон 1789, т. 4, стр. 3, 14–22, 34 и 192.]
** См. Oeuvres complètes de l'аbbé de Mably, Londres 1789, tome quatrième, p. 109.
*** Сравни первое из писем об «Истории Франции» с «Essai sur le genre dramatique sérieux» [«Этюдом о серьёзном драматическом жанре»] в первом томе Oeuvres complètes [Полного собрания сочинений] Бомарше.
Наконец, бури, ещё так недавно пережитые Францией, очень ясно показали, что ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей; уже одно это обстоятельство должно было наводить на мысль о том, что эти события совершаются под влиянием какой-то скрытой необходимости, действующей, подобно стихийным силам природы, слепо, но сообразно известным непреложным законам. Чрезвычайно замечателен, — хотя до сих пор, насколько мы знаем, никем ещё не указан, — тот факт, что новые взгляды на историю как на законосообразный процесс были наиболее последовательно проведены французскими историками реставрационной эпохи именно в сочинениях, посвящённых французской революции. Таковы были, между прочим, сочинения Минье и Тьера 13. Шатобриан назвал новую историческую школу фаталистической. Формулируя задачи, которые она ставила перед исследователем, он говорил: «Эта система требует, чтобы историк повествовал без негодования о самых свирепых зверствах, говорил без любви о самых высоких добродетелях и своим ледяным взором видел в общественной жизни лишь проявление неотразимых законов, в силу которых всякое явление совершается именно так, как оно неизбежно должно было совершиться» *. Это, конечно, неверно. Новая школа вовсе не требовала бесстрастия от историка. Огюстен Тьерри даже прямо заявил, что политические страсти, изощряя ум исследователя, могут послужить могущественным средством открытия истины **. И достаточно хоть немного ознакомиться с историческими сочинениями Гизо, Тьера 15 или Минье, чтобы увидеть, что они очень горячо сочувствовали буржуазии как в её борьбе со светской и духовной аристократией, так и в её стремлении подавить требования нарождавшегося пролетариата. Но неоспоримо вот что: новая историческая школа возникла в двадцатых годах XIX века, т. е. в такое время, когда аристократия была уже побеждена буржуазией, хотя и пыталась ещё восстановить кое-что из своих старых привилегий. Гордое сознание победы их класса сказывалось во всех рассуждениях историков новой школы. А так как буржуазия рыцарскою тонкостью чувств никогда не отличалась, то в рассуждениях её учёных представителей слышно было иногда очень жестокое отношение к побеждённым.
* Oeuvres complètes de Chateaubriand, Paris 1860, t. VII, p. 58. [Полное собрание сочинений Шатобриана, Париж 1860, т. VII, стр. 58.] Рекомендуем вниманию читателей также следующую страницу; можно подумать, что её написал г. Ник. Михайловский 14.
** См. Considérations sur l'histoire de France [«Рассуждения об истории Франции»], приложенные к «Recits des temps Mérovingiens», Paris 1840, p. 72. [«Рассказам о временах Меровингов», Париж 1840, стр. 72.]
«Le plus fort absorbe le plus faible, — говорит Гизо в одной из своих полемических брошюр, — et cela est de droit». (Сильный поглощает слабого, и это справедливо.) Не менее жестоко его отношение к рабочему классу. Эта-то жестокость, принимавшая по временам форму спокойного бесстрастия, и ввела в заблуждение Шатобриана. Кроме того, тогда ещё не вполне ясно было, как надо понимать законосообразность исторического движения. Наконец, новая школа могла показаться фаталистической именно потому, что, стремясь стать твёрдой ногой на точку зрения законосообразности, она мало занималась великими историческими личностями *. С этим трудно было помириться людям, воспитавшимся на исторических идеях восемнадцатого века. Возражения посыпались на новых историков со всех сторон, и тогда завязался спор, не кончившийся, как мы видели, ещё и поныне.
Г. Сент-Бёв писал в «Globe» 16 по поводу выхода в свет пятого и шестого томов «Истории французской революции» Тьера 17: «В каждую данную минуту человек может внезапным решением своей воли ввести в ход событий новую, неожиданную и изменчивую силу, которая способна придать ему иное направление, но которая, однако, сама не поддаётся измерению вследствие своей изменчивости».
Не надо думать, что Сент-Бёв полагал, будто «внезапные решения» человеческой воли являются без всякой причины. Нет, это было бы слишком наивно. Он только утверждал, что умственные и нравственные свойства человека, играющего более или менее важную роль в общественной жизни, — его таланты, знания, решительность или нерешительность, храбрость или трусость и т. д. и т. д. — не могут остаться без очень заметного влияния на ход и исход событий, а, между тем, эти свойства объясняются не одними только общими законами народного развития: они всегда и в очень значительной степени складываются под действием того, что можно назвать случайностями частной
* В статье, посвящённой 3-му изданию «Истории французской революции» Минье, Сент-Бёв так характеризовал отношение этого историка к личностям: «A la vue des vastes et profondes émotions populaires qu'il avait à décrire, au spectacle de l'impuissance et du néant ou tombent les plus sublimes génies, les vertus les plus saintes, alors que les masses se soulèvent, il s'est pris de pitié pour les individus, n'a vu en eux pris isolement que faiblesse et ne leur a reconnu d'action efficace, que dans leur union avec la multitude». [«При виде широких и глубоких народных волнений, которые ему нужно было описать, наблюдая бессилие и ничтожество самых возвышенных гениев, самых святых добродетелей при восстании масс, он был охвачен жалостью к личности, не видел в ней, отдельно взятой, ничего кроме слабости и не признавал за нею способности идти на реальные действия, кроме как в единении с массой».]
жизни. Приведём несколько примеров для пояснения этой, кажется, впрочем и без того ясной мысли.
В войне за австрийское наследство 18 французские войска одержали несколько блестящих побед, и Франция могла, по-видимому, добиться от Австрии уступки довольно обширной территории в нынешней Бельгии; но Людовик XV не требовал этой уступки, потому что он воевал, по его словам, не как купец, а как король, и Аахенский мир ничего не дал французам 19; а если бы у Людовика XV был другой характер или если бы на его месте был другой король, то, может быть, увеличилась бы территория Франции, вследствие чего несколько изменился бы ход её экономического и политического развития.
Семилетнюю войну 20 Франция вела, как известно, уже в союзе с Австрией. Говорят, что этот союз был заключён при сильном содействии г-жи Помпадур, чрезвычайно польщённой тем, что гордая Мария-Терезия назвала её в письме к ней своей кузиной или своей дорогой подругой (bien bonne amie). Можно сказать поэтому, что если бы Людовик XV имел более строгие нравы или если бы он менее поддавался влиянию своих фавориток, то г-жа Помпадур не приобрела бы такого влияния на ход событий и они приняли бы другой оборот.
Далее. Семилетняя война была неудачна для Франции 21: её генералы потерпели несколько постыднейших поражений. Вообще они вели себя более чем странно. Ришелье занимался грабежом, а Субиз и Брольи постоянно мешали друг другу. Так, когда Брольи атаковал неприятеля при Филлингаузене, Субиз слышал пушечные выстрелы, но не пошёл на помощь к товарищу, как это было условлено и как он, без сомнения, должен был сделать, и Брольи вынужден был отступить *. Крайне неспособному Субизу покровительствовала та же г-жа Помпадур. И можно опять сказать: если бы Людовик XV был менее сластолюбив или если бы его фаворитка не вмешивалась в политику, то события не сложились бы так неблагоприятно для Франции.
Французские историки говорят, что Франции вовсе и не нужно было воевать на европейском материке, а следовало сосредоточить все свои усилия на море, чтобы отстоять от посягательства Англии свои колонии. Если же она поступила иначе, то тут опять была виновата неизбежная г-жа Помпадур, желавшая угодить «своей дорогой подруге» Марии-Терезии. Вследствие Семилетней войны Франция лишилась лучших своих колоний, что, без сомнения, сильно повлияло на развитие её
* Другие говорят, впрочем, что виноват был не Субиз, а Брольи, который не стал ждать своего товарища, не желая делить с ним славу победы. Для нас это не имеет никакого значения, так как нимало не изменяет дела.
экономических отношений. Женское тщеславие выступает здесь перед нами в роли влиятельного «фактора» экономического развития. Нужны ли другие примеры? Приведём ещё один, может быть, наиболее поразительный. Во время той же Семилетней войны, в августе 1761 г., австрийские войска, соединившись с русскими в Силезии, окружили Фридриха около Штригау. Его положение было отчаянное, но союзники медлили нападением, и генерал Бутурлин, простояв 20 дней перед неприятелем, даже совсем ушёл из Силезии, оставив там только часть своих сил для подкрепления австрийского генерала Лаудона. Лаудон взял Швейдниц, около которого стоял Фридрих, но этот успех был маловажен. А если бы Бутурлин имел более решительный характер? Если бы союзники напали на Фридриха, не дав ему окопаться в своём лагере? Возможно, что они разбили бы его наголову и он должен был бы подчиниться всем требованиям победителей. И это произошло едва за несколько месяцев до того, как новая случайность, смерть императрицы Елисаветы, сразу и сильно изменила положение дел в благоприятном для Фридриха смысле 22. Спрашивается, что было бы, если бы Бутурлин имел больше решительности или если бы его место занимал человек, подобный Суворову?
Разбирая взгляды историков-«фаталистов», Сент-Бёв высказал ещё и другое соображение, на которое тоже следует обратить внимание. В цитированной уже нами статье об «Истории французской революции» Минье он доказывал, что ход и исход французской революции обусловлены были не только теми общими причинами, которые её вызвали, и не только теми страстями, которые она вызвала в свою очередь, но также и множеством мелких явлений, ускользающих от внимания исследователя и даже совсем не входящих в число общественных явлений, собственно так называемых. «В то время, как действовали эти (общие) причины и эти (вызванные ими) страсти, — писал он, — физические и физиологические силы природы тоже не бездействовали: камень продолжал подчиняться силе тяжести; кровь не переставала обращаться в жилах. Неужели не изменился бы ход событий, если бы, положим, Мирабо не умер от горячки; если бы случайно упавший кирпич или апоплексический удар убил Робеспьера; если бы пуля сразила Бонапарта? И неужели вы решитесь утверждать, что исход их был бы тот же самый? При достаточном числе случайностей, подобных предположенным мною, он мог бы быть совершенно противоположен тому, который, по-вашему, был неизбежен. А ведь я имею право предполагать такие случайности, потому что их не исключают ни общие причины революции, ни страсти, порождённые этими общими причинами». Он приводит далее известное замечание о том, что история пошла бы совсем иначе, если бы нос
Клеопатры был несколько короче, и в заключение, признавая, что в защиту взгляда Минье можно сказать очень многое, он ещё раз указывает, в чём заключается ошибка этого автора: Минье приписывает действию одних только общих причин те результаты, появлению которых способствовало также множество других, мелких, тёмных и неуловимых причин; его строгий ум как бы не хочет признать существования того, в чём он не видит порядка и законосообразности.
VI
Основательны ли эти возражения Сент-Бёва? Кажется, в них есть некоторая доля истины 23. Но какая же именно? Чтобы определить её, рассмотрим сначала ту мысль, что человек может «внезапными решениями своей воли» ввести в ход событий новую силу, способную значительно изменить его. Мы привели несколько примеров, как нам кажется, хорошо её поясняющих. Вдумаемся в эти примеры.
Всем известно, что в царствование Людовика XV военное дело всё более и более падало во Франции. По замечанию Анри Мартэна, во время Семилетней войны французские войска, за которыми всегда тянулось множество публичных женщин, торговцев и слуг и в которых было втрое больше обозных лошадей, чем верховых, напоминали собою скорее полчища Дария и Ксеркса, чем армии Тюрэнна и Густава-Адольфа * 24. Архенгольц говорит в своей истории этой войны, что французские офицеры, назначенные в караул, часто покидали вверенные им посты, отправляясь потанцевать где-нибудь по соседству, и исполняли приказания начальства только тогда, когда находили это нужным и удобным. Такое жалкое положение военного дела обусловливалось упадком дворянства, — которое продолжало, однако, занимать все высшие должности в армии, — и общим расстройством всего «старого порядка», быстро шедшего к своему разрушению. Одних этих общих причин было вполне достаточно для того, чтобы придать Семилетней войне невыгодный для Франции оборот. Но несомненно, что неспособность генералов, подобных Субизу, ещё более умножила для французской армии шансы неудачи, обусловленные общими причинами. А так как Субиз держался благодаря г-же Помпадур, то необходимо признать, что тщеславная маркиза была одним из «факторов», значительно усиливших неблагоприятное для Франции влияние общих причин на положение дел во время Семилетней войны.
Маркиза де-Помпадур сильна была не своей собственной силой, а властью короля, подчинившегося её воле. Можно ли
* «Histoire de France», 4-ème édition, t. XV, p. 520–521. [«История Франции», 4-е изд., т. XV, стр. 520–521.]
сказать, что характер Людовика XV был именно таков, каким он непременно должен был быть по общему ходу развития общественных отношений во Франции? Нет, при том же самом ходе этого развития на его месте мог оказаться король, иначе относившийся к женщинам. Сент-Бёв сказал бы, что для этого достаточно было бы действия тёмных и неуловимых физиологических причин. И он был бы прав. Но если так, то выходит, что эти тёмные физиологические причины, повлияв на ход и исход Семилетней войны, тем самым повлияли и на дальнейшее экономическое развитие Франции, которое пошло бы иначе, если бы Семилетняя война не лишила её большей части колоний. Спрашивается, не противоречит ли этот вывод понятию о законосообразности общественного развития?
Нет, нисколько. Как ни несомненно в указанных случаях действие личных особенностей, не менее несомненно и то, что оно могло совершиться лишь при данных общественных условиях. После сражения при Росбахе французы страшно негодовали на покровительницу Субиза. Она каждый день получала множество анонимных писем, полных угроз и оскорблений. Это очень сильно волновало г-жу Помпадур; она стала страдать бессонницей *. Но она всё-таки продолжала поддерживать Субиза. В 1762 г. она, заметив ему в одном из своих писем, что он не оправдал возложенных на него надежд, прибавляла: «не бойтесь, однако, ничего, я позабочусь о ваших интересах и постараюсь примирить вас с королём» **. Как видите, она не уступила общественному мнению. Почему же не уступила? Вероятно, потому, что тогдашнее французское общество не имело возможности принудить её к уступкам. А почему же тогдашнее французское общество не могло сделать этого? Ему препятствовала в этом его организация, которая, в свою очередь, зависела от соотношения тогдашних общественных сил во Франции. Следовательно, соотношением этих сил и объясняется в последнем счёте то обстоятельство, что характер Людовика XV и прихоти его фавориток могли иметь такое печальное влияние на судьбу Франции. Ведь если бы слабостью по отношению к женскому полу отличался не король, а какой-нибудь королевский повар или конюх, то она не имела бы никакого исторического значения. Ясно, что дело тут не в слабости, а в общественном положении лица, страдающего ею. Читатель понимает, что эти рассуждения могут быть применены и ко всем другим вышеприведённым примерам. В этих рассуждениях нужно лишь изменить то, что подлежит изменению, например вместо Франции поставить
* См. «Mémoires de madame du Hausset», Paris 1824, p. 181. [«Воспоминания г-жи дю-Госсэ», Париж 1824, стр. 181.] 25
** «Lettres de la marquise de Pompadour», Londres 1772, t. I. [«Письма маркизы де-Помпадур», Лондон 1772, т. I.]
Россию, вместо Субиза — Бутурлина и т. д. Поэтому мы не будем повторять их.
Выходит, что личности благодаря данным особенностям своего характера могут влиять на судьбу общества. Иногда их влияние бывает даже очень значительно, но как самая возможность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией общества, соотношением его сил. Характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения.
Нам могут заметить, что размеры личного влияния зависят также и от талантов личности. Мы согласимся с этим. Но личность может проявить свои таланты только тогда, когда она займёт необходимое для этого положение в обществе. Почему судьба Франции могла оказаться в руках человека, лишённого всякой способности и охоты к общественному служению? Потому что такова была её общественная организация. Этой организацией и определяются в каждое данное время те роли, — а следовательно, и то общественное значение, — которые могут выпасть на долю даровитых или бездарных личностей.
Но если роли личностей определяются организацией общества, то каким же образом их общественное влияние, обусловленное этими ролями, может противоречить понятию о законосообразности общественного развития? Оно не только не противоречит ему, но служит одной из самых ярких его иллюстраций.
Но тут надо заметить вот что. Обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов так называемых случайностей. Сластолюбие Людовика XV было необходимым следствием состояния его организма. Но по отношению к общему ходу развития Франции это состояние было случайно. А между тем оно не осталось, как мы уже сказали, без влияния на дальнейшую судьбу Франции и само вошло в число причин, обусловивших собою эту судьбу. Смерть Мирабо, конечно, причинена была вполне законосообразными патологическими процессами. Но необходимость этих процессов вытекала вовсе не из общего хода развития Франции, а из некоторых частных особенностей организма знаменитого оратора и из тех физических условий, при которых он заразился. По отношению к общему ходу развития Франции эти особенности и эти условия являются случайными. А между тем смерть Мирабо повлияла на дальнейший ход революции и вошла в число причин, обусловивших его собою.
Ещё поразительнее действие случайных причин в вышеприведённом примере Фридриха II, вышедшего из крайне
затруднительного положения лишь благодаря нерешительности Бутурлина. Назначение Бутурлина даже по отношению к общему ходу развития России могло быть случайным в определённом нами смысле этого слова, а к общему ходу развития Пруссии оно, конечно, не имело никакого отношения. А между тем не лишено вероятия то предположение, что нерешительность Бутурлина выручила Фридриха из отчаянного положения. Если бы на месте Бутурлина был Суворов, то, может быть, история Пруссии пошла бы иначе. Выходит, что судьба государств зависит иногда от случайностей, которые можно назвать случайностями второй степени.
«In allem Endlichen ist ein Element des Zufälligen», — говорил Гегель (во всём конечном есть элемент случайного). В науке мы имеем дело только с «конечным»; поэтому можно сказать, что во всех процессах, изучаемых ею, есть элемент случайности. Не исключает ли это возможности научного познания явлений? Нет. Случайность есть нечто относительное. Она является лишь в точке пересечения необходимых процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу случайностью в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков; не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами; эти последствия определились в конце концов равнодействующей двух сил: экономического положения завоёванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей — с другой. А эти силы, как и их равнодействующая, вполне могут быть предметом строгого научного исследования.
Случайности Семилетней войны имели большое влияние на дальнейшую историю Пруссии. Но их влияние было бы совсем не таково, если бы они застали её на другой стадии развития. Последствия случайностей и здесь были определены равнодействующей двух сил: социально-политического состояния Пруссии, с одной стороны, и социально-политического состояния влиявших на неё европейских государств — с другой. Следовательно, и здесь случайность нисколько не мешает научному изучению явлений.
Теперь мы знаем, что личности часто имеют большое влияние на судьбу общества, но что влияние это определяется его внутренним строем и его отношением к другим обществам. Но этим ещё не исчерпан вопрос о роли личности в истории. Мы должны подойти к нему ещё с другой стороны.
Сент-Бёв думал, что при достаточном числе мелких и тёмных причин указанного им рода французская революция могла бы
иметь исход, противоположный тому, который мы знаем. Это большая ошибка. В какие бы замысловатые сплетения ни соединялись мелкие психологические и физиологические причины, они ни в каком случае не устранили бы великих общественных нужд, вызвавших французскую революцию; а пока эти нужды оставались бы неудовлетворёнными, во Франции не прекратилось бы революционное движение. Чтобы исход его мог быть противоположен тому, который имел место в действительности, нужно было бы заменить эти нужды другими, им противоположными; а этого, разумеется, никогда не в состоянии были бы сделать никакие сочетания мелких причин.
Причины французской революции заключались в свойствах общественных отношений, а предположенные Сент-Бёвом мелкие причины могли корениться только в индивидуальных особенностях отдельных лиц. Последняя причина общественных отношений заключается в состоянии производительных сил. Оно зависит от индивидуальных особенностей отдельных лиц разве лишь в смысле большей или меньшей способности таких лиц к техническим усовершенствованиям, открытиям и изобретениям. Сент-Бёв имел в виду не такие особенности. А все возможные другие особенности не обеспечивают отдельным лицам непосредственного влияния на состояние производительных сил, а, следовательно, и на те общественные отношения, которые им обусловливаются, т. е. на экономические отношения. Каковы бы ни были особенности данной личности, она не может устранить данные экономические отношения, раз они соответствуют данному состоянию производительных сил. Но индивидуальные особенности личности делают её более или менее годной для удовлетворения тех общественных нужд, которые вырастают на основе данных экономических отношений, или для противодействия такому удовлетворению. Насущнейшей общественной нуждою Франции конца XVIII века была замена устаревших политических учреждений другими, более соответствующими её новому экономическому строю. Наиболее видными и полезными общественными деятелями того времени были именно те, которые лучше всех других способны были содействовать удовлетворению этой насущнейшей нужды. Положим, что такими людьми были Мирабо, Робеспьер и Бонапарт. Что было бы, если бы преждевременная смерть не устранила Мирабо с политической сцены? Партия конституционной монархии долее сохранила бы крупную силу; её сопротивление республиканцам было бы поэтому энергичнее. Но и только. Никакой Мирабо не мог тогда предотвратить торжества республиканцев. Сила Мирабо целиком основывалась на сочувствии и доверии к нему народа, а народ стремился к республике, так как двор раздражал его своей упрямой защитой старого
порядка. Едва только народ убедился бы, что Мирабо не сочувствует его республиканским стремлениям, он сам перестал бы сочувствовать Мирабо, и тогда великий оратор потерял бы почти всякое влияние, а затем, вероятно, пал бы жертвой того самого движения, которое он напрасно старался бы задержать. Приблизительно то же можно сказать и о Робеспьере. Допустим, что он в своей партии представлял собою совершенно незаменимую силу. Но он был, во всяком случае, не единственной её силой. Если бы случайный удар кирпича убил его, скажем, в январе 1793 года 26, то его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим, и, хотя бы этот другой был гораздо ниже его во всех смыслах, события всё-таки пошли бы в том самом направлении, в каком они пошли при Робеспьере. Так, например, жирондисты, наверное, и в этом случае не миновали бы поражения; но возможно, что партия Робеспьера несколько раньше лишилась бы власти, так что мы говорили бы теперь не о термидорской, а о флориальской, прериальской или мессидорской реакции 27. Иные скажут, может быть, что Робеспьер своим неумолимым терроризмом ускорил, а не замедлил падение своей партии. Мы не станем рассматривать здесь это предположение, а примем его, как будто бы оно было вполне основательно. В таком случае нужно будет предположить, что падение партии Робеспьера совершилось бы вместо термидора в течение фруктидора или вандемьера, или брюмера. Короче, оно совершилось бы, может быть, раньше, а может быть, позже, но всё-таки непременно совершилось бы, потому что тот слой народа, на который опиралась эта партия, был вовсе не готов для продолжительного господства. О результатах же «противоположных» тем, которые явились при энергичном содействии Робеспьера, во всяком случае не могло бы быть и речи.
Не могли бы они явиться и в том случае, если бы пуля поразила Бонапарта, скажем, в сражении при Арколе 28. То, что сделал он в итальянских и других походах, сделали бы другие генералы. Они, вероятно, не проявили бы таких талантов, как он, и не одержали бы таких блестящих побед. Но французская республика всё-таки вышла бы победительницей из своих тогдашних войн, потому что её солдаты были несравненно лучше всех других европейских солдат. Что касается 18 брюмера 29 и его влияния на внутреннюю жизнь Франции, то и здесь общий ход и исход событий по существу были бы, вероятно, те же, что и при Наполеоне. Республика, насмерть поражённая 9 термидора, умирала медленной смертью. Директория 30 не могла восстановить порядок, которого больше всего жаждала теперь буржуазия, избавившаяся от господства высших сословий. Для восстановления порядка нужна была «хорошая шпага», как выражался Сийэс. Сначала думали, что роль благодетельной шпаги
сыграет генерал Жубер 31, а когда он был убит при Нови, стали говорить о Моро, о Макдональде, о Бернадотте *. О Бонапарте заговорили уже после; а если бы он был убит, подобно Жуберу, то о нём и совсем не вспомнили бы, выдвинув вперёд какую-нибудь другую «шпагу». Само собою разумеется, что человек, возводимый событиями в звание диктатора, должен был с своей стороны неутомимо пробиваться к власти, энергично расталкивая и беспощадно давя всех, заграждавших ему дорогу. У Бонапарта была железная энергия, и он ничего не щадил для достижения своих целей. Но и кроме него тогда не мало было энергичных, талантливых и честолюбивых эгоистов. Место, которое удалось ему занять, наверное, не осталось бы не занятым. Положим, что другой генерал, добившись этого места, был бы миролюбивее Наполеона, что он не восстановил бы против себя всей Европы и потому умер бы в Тюльери 32, а не на острове святой Елены. Тогда Бурбоны вовсе не возвратились бы во Францию; для них такой результат был бы, конечно, «противоположен» тому, который получился на самом деле. Но по своему отношению ко всей внутренней жизни Франции он мало чем отличался бы от действительного результата. «Хорошая шпага», восстановив порядок и обеспечив господство буржуазии, скоро надоела бы ей своими казарменными привычками и своим деспотизмом. Началось бы либеральное движение, подобное тому, которое происходило при реставрации, борьба постепенно стала бы разгораться, а так как «хорошие шпаги» не отличаются уступчивостью, то, может быть, добродетельный Луи-Филипп сел бы на трон своих нежнолюбимых родственников не в 1830, а в 1820 или 1825 году. Все такие изменения в ходе событий могли бы отчасти повлиять на дальнейшую политическую, а через её посредство и на экономическую жизнь Европы. Но окончательный исход революционного движения всё-таки ни в каком случае не был бы «противоположен» действительному исходу. Влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление, которое определяется другими силами.
VII
Кроме того, надо заметить ещё и вот что. Рассуждая о роли великих личностей в истории, мы почти всегда делаемся жертвой некоторого оптического обмана, на который полезно будет указать читателям.
* La vie en France sous le premier Empire par le vicomte de Broc, Paris 1895, p. 35–36 [Жизнь во Франции в эпоху первой империи виконта де Брока, Париж 1895, стр. 35–36] и след.
Выступив в роли «хорошей шпаги», спасающей общественный порядок, Наполеон тем самым устранил от этой роли всех других генералов, из которых иные может быть сыграли бы её так же или почти так же, как и он. Раз общественная потребность в энергическом военном правителе была удовлетворена, общественная организация загородила всем другим военным талантам дорогу к месту военного правителя. Её сила стала силой, неблагоприятной для проявления других талантов этого рода. Благодаря этому и происходит тот оптический обман, о котором мы говорим. Личная сила Наполеона является нам в крайне преувеличенном виде, так как мы относим на её счёт всю ту общественную силу, которая выдвинула и поддерживала её. Она кажется чем-то совершенно исключительным, потому что другие, подобные ей, силы не перешли из возможности в действительность. И когда нам говорят: а что было бы, если бы не было Наполеона, то наше воображение путается и нам кажется, что без него совсем не могло бы совершиться всё то общественное движение, на котором основывались его сила и влияние.
В истории умственного развития человечества успех одной личности несравненно реже препятствует успеху другой. Но и там мы не свободны от указанного оптического обмана. Когда данное положение общества ставит перед его духовными выразителями известные задачи, они привлекают к себе внимание выдающихся умов до тех пор, пока им не удастся решить их. А раз им удастся это, внимание их направляется на другой предмет. Решив задачу X, данный талант A тем самым направляет внимание таланта B от этой, уже решённой, задачи к другой задаче Y. И когда нас спрашивают, что было бы, если бы A умер, не успев решить задачу X, мы воображаем, что порвалась бы нить умственного развития общества. Мы забываем, что в случае смерти A за решение задачи мог бы взяться B, или C, или D, и что таким образом нить умственного развития общества осталась бы целой, несмотря на преждевременную гибель A.
Чтобы человек, обладающий талантом известного рода, приобрёл благодаря ему большое влияние на ход событий, нужно соблюдение двух условий. Во-первых, его талант должен сделать его более других соответствующим общественным нуждам данной эпохи: если бы Наполеон вместо своего военного гения обладал музыкальным дарованием Бетховена, то он, конечно, не сделался бы императором. Во-вторых, существующий общественный строй не должен заграждать дорогу личности, имеющей данную особенность, нужную и полезную как раз в это время 33. Тот же Наполеон умер бы мало известным генералом или полковником Буонапарте, если бы старый режим просуществовал
во Франции лишних семьдесят пять лет *. В 1789 г. Даву, Дезэ, Мармон и Макдональд были подпоручиками; Бернадотт — сержант-майором; Гош, Марсо, Лефевр, Пишегрю, Ней, Массэна, Мюрат, Сульт — унтер-офицерами; Ожэро — учителем фехтования; Ланн — красильщиком; Гувион Сен-Сир — актёром; Журдан — разносчиком; Бессьер — парикмахером; Брюн — наборщиком; Жубер и Жюно — студентами юридического факультета; Клебер — архитектором; Мортье не поступал на военную службу вплоть до революции **.
Если бы старый режим продолжал существовать до наших дней, то никому из нас и в голову не пришло бы теперь, что в конце прошлого века во Франции некоторые актёры, наборщики, парикмахеры, красильщики, юристы, разносчики и учителя фехтования были военными талантами в возможности ***.
Стэндаль замечает, что человек, родившийся одновременно с Тицианом, т. е. в 1477 г., мог бы прожить 40 лет с Рафаэлем и Леонардо-да-Винчи, из которых первый умер в 1520, а второй в 1519 г., что он мог бы провести долгие годы с Корреджио, умершим в 1534 г., и с Микель-Анджело, прожившим до 1563 г., что ему было бы не больше тридцати четырёх лет, когда умер Джиорджиони, что он мог бы быть знаком с Тинторэтто, Бассано, Веронезе, Юлием Романо и Андреем дель-Сарто; что, одним словом, он был бы современником всех великих живописцев, за исключением тех, которые принадлежат к Болонской школе, явившейся целым столетием позже ****. Точно так же можно сказать, что человек, родившийся в одном году с Воуэрманном, мог бы лично знать почти всех великих живописцев Голландии ******,
* Возможно, что тогда Наполеон уехал бы в Россию, куда он собирался ехать едва за несколько лет до революции. Здесь он отличился бы, вероятно, в битвах с турками или с кавказскими горцами, но никто не подумал бы здесь, что этот бедный, но способный офицер при благоприятных обстоятельствах мог бы сделаться господином мира.
** См. Histoire de France, par V. Duruy, Paris 1893, t. II, p. 524–525. [История Франции В. Дюрюи, Париж 1893, т. II, стр. 524–525.]
*** При Людовике XV только один представитель третьего сословия, Шэвер, мог дослужиться до чина генерал-лейтенанта. При Людовике XVI ещё более затруднена была военная карьера людей этого сословия. См. Rambeaud, Histoire de la civilization française, sixième edition, t. II, p. 226. [Рамбо, История французской цивилизации, 6 изд., т. II, стр. 226.]
**** Histoire de la peinture en Italie, Paris 1892, p. 24–25. [История живописи в Италии, Париж 1892, стр. 24–25.]
***** В 1608 г. родились Тербург, Броуэр и Рембрандт; в 1610 — Адриан Ван-Остаде, Бот и Фердинанд Боль; в 1613 — Ван-дер-Гельст и Жерар Доу; в 1615 — Метцу; в 1620 — Воуэрманн; в 1621 — Верникс, Эвердинген и Пайнакер; в 1624 — Бергем; в 1625 — Пауль Поттер; в 1626 — Ян Стеен; в 1630 — Рюисдель; в 1637 — Ван-дер-Гейден; в 1638 — Гоббема; в 1639 — Адриан Ван-де-Вельде 34.
а ровесник Шекспира жил одновременно с целым рядом замечательных драматургов *.
Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. Это значит, что всякий талант, проявившийся в действительности, т. е. всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений. Но если это так, то понятно, почему талантливые люди могут, как мы сказали, изменить лишь индивидуальную физиономию, а не общее направление событий; они сами существуют только благодаря такому направлению; если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности.
Само собою понятно, что талант таланту рознь. «Когда новый шаг в развитии цивилизации вызывает к жизни новый род искусства, — справедливо говорит Тэн, — являются десятки талантов, выражающих общественную мысль только наполовину, вокруг одного или двух гениев, выражающих её в совершенстве» **. Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политического и духовного развития Италии, ещё в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития в эпоху Возрождения осталось бы то же. Рафаэль, Леонардо-да-Винчи и Микель-Анджело не создали этого направления: они были только лучшими его выразителями. Правда, вокруг гениального человека возникает обыкновенно целая школа, причём его ученики стараются усвоить даже мельчайшие его приёмы; поэтому пробел, который остался бы в итальянском искусстве эпохи Возрождения вследствие ранней смерти Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, оказал бы сильное влияние на многие второстепенные особенности в его дальнейшей истории. Но и эта история не изменилась бы по существу, если бы только не произошло по каким-нибудь общим причинам какого-нибудь существенного изменения в общем ходе духовного развития Италии.
Известно, однако, что количественные различия переходят, наконец, в качественные. Это верно везде; следовательно,
* «Шекспир, Бьюмонт, Флетчер, Джонсон, Уэбстер, Мэссинджер, Форд, Миддльтон и Гейвуд, явившиеся в одно и то же время или один за другим, представляют собою новое поколение, которое благодаря своему благоприятному положению пышно расцвело на почве, подготовленной усилиями предыдущего поколения». Тэн, Histoire de la littérature anglaise, Paris 1863, t. I, p. 468. [История английской литературы, Париж 1863, т. I, стр. 468.]
** Тэн, Histoire de la littérature anglaise, Paris 1863, t. II, p. 5. [История английской литературы, Париж 1863, т. II, стр. 5.]
верно и в истории. Данное течение в искусстве может совсем остаться без сколько-нибудь замечательного выражения, если неблагоприятное стечение обстоятельств унесёт одного за другим нескольких талантливых людей, которые могли бы стать его выразителями. Но преждевременная гибель таких людей помешает художественному выражению этого течения только в том случае, если оно недостаточно глубоко, чтобы выдвинуть новые таланты. А так как глубина всякого данного направления в литературе и искусстве определяется значением его для того класса или слоя, вкусы которого оно выражает, и общественной ролью этого класса или слоя, то и здесь всё зависит в последнем счёте от хода общественного развития и от соотношения общественных сил.
VIII
Итак, личные особенности руководящих людей определяют собою индивидуальную физиономию исторических событий, и элемент случайности, в указанном нами смысле, всегда играет некоторую роль в ходе этих событий, направление которого определяется в последнем счёте так называемыми общими причинами, т. е. на самом деле развитием производительных сил и определяемыми им взаимными отношениями людей в общественно-экономическом процессе производства. Случайные явления и личные особенности знаменитых людей несравненно заметнее, чем глубоко лежащие общие причины. Восемнадцатый век мало задумывался об этих общих причинах, объясняя историю сознательными поступками и «страстями» исторических деятелей. Философы того века утверждали, что история могла бы пойти совершенно другими путями под влиянием самых ничтожных причин, — например, вследствие того, что в голове какого-нибудь правителя зашалил бы какой-нибудь «атом» (соображение, не раз высказанное в Système de la nature *) 35.
Защитники нового направления в исторической науке стали доказывать, что история не могла пойти иначе, чем она шла на самом деле, несмотря ни на какие «атомы». Стремясь как можно лучше оттенить действие общих причин, они оставляли без внимания значение личных особенностей исторических деятелей. У них выходило, что исторические события ни на волос не изменились бы от замены одних лиц другими, более или менее способными **. Но раз мы допускаем такое предположение, мы
* [«Системе природы».]
** Т. е. выходило, когда они начинали рассуждать о законосообразности исторических событий. А когда некоторые из них просто описывали эти явления, то они подчас придавали личному элементу даже преувеличенное значение. Но нас интересуют теперь не рассказы их, а именно рассуждения.
необходимо должны признать, что личный элемент не имеет в истории ровно никакого значения и что всё сводится в ней к действию общих причин, общих законов исторического движения. Это была крайность, вовсе не оставлявшая места для той доли истины, которая заключалась в противоположном взгляде 36. Но именно поэтому противоположный взгляд продолжал сохранять за собою некоторое право на существование. Столкновение этих двух взглядов приняло вид антиномии, первым членом которой являлись общие законы, а вторым — деятельность личностей. С точки зрения второго члена антиномии история представлялась простым сцеплением случайностей; с точки зрения первого её члена казалось, что действием общих причин были обусловлены даже индивидуальные черты исторических событий. Но если индивидуальные черты событий обусловливаются влиянием общих причин и не зависят от личных свойств исторических деятелей, то выходит, что эти черты определяются общими причинами и не могут быть изменены, как бы ни изменялись эти деятели. Теория принимает, таким образом, фаталистический характер.
Это не ускользнуло от внимания её противников. Сент-Бёв сравнивал исторические взгляды Минье с историческими взглядами Боссюэ. Боссюэ думал, что сила, действием которой совершаются исторические события, идёт свыше, что они служат выражением божественной воли. Минье искал этой силы в человеческих страстях, проявляющихся в исторических событиях с неумолимостью и непреклонностью сил природы. Но оба они смотрели на историю, как на цепь таких явлений, которые ни в каком случае не могли бы быть иными; оба они — фаталисты; в этом отношении философ был близок к священнику (le philosophe se rapproche du prêtre).
Такой упрёк оставался основательным до тех пор, пока учение о законосообразности общественных явлений приравнивало к нулю влияние на события личных особенностей выдающихся исторических деятелей. И этот упрёк должен был производить тем более сильное впечатление, что историки новой школы, подобно историкам и философам восемнадцатого века, считали человеческую природу высшей инстанцией, из которой выходили и которой подчинялись все общие причины исторического движения. Так как французская революция показала, что исторические события обусловливаются не одними только сознательными поступками людей, то Минье, Гизо и другие учёные того же направления выдвигали на первый план действие страстей, так часто сбрасывающих с себя всякий контроль сознания. Но если страсти являются последней и самой общей причиной исторических событий, то почему не прав Сент-Бёв, утверждающий, что французская революция могла бы иметь
исход, противоположный тому, который мы знаем, раз нашлись бы деятели, способные внушить французскому народу страсти, противоположные тем, которые его волновали? Минье сказал бы: потому что другие страсти не могли взволновать тогда французов по самым свойствам человеческой природы. В известном смысле это была бы правда. Но эта правда имела бы сильный фаталистический оттенок, так как она была бы равносильна тому положению, что история человечества во всех своих подробностях предопределена общими свойствами человеческой природы. Фатализм явился бы здесь как результат исчезновения индивидуального в общем. Впрочем, он и всегда является результатом такого исчезновения. Говорят: «если все общественные явления необходимы, то наша деятельность не может иметь никакого значения». Это неправильная формулировка правильной мысли. Надо сказать: если всё делается посредством общего, то единичное, — а в том числе и мои личные усилия — не имеют никакого значения. Такой вывод правилен, только им неправильно пользуются. Он не имеет никакого смысла в применении к современному материалистическому взгляду на историю, в котором есть место и для единичного. Но он был основателен в применении ко взглядам французских историков времён реставрации.
В настоящее время нельзя уже считать человеческую природу последней и самой общей причиной исторического движения: если она постоянна, то она не может объяснить крайне изменчивый ход истории, а если она изменяется, то, очевидно, что её изменения сами обусловливаются историческим движением. В настоящее время последней и самой общей причиной исторического движения человечества надо признать развитие производительных сил, которым обусловливаются последовательные изменения в общественных отношениях людей. Рядом с этой общей причиной действуют особенные причины, т. е. та историческая обстановка, при которой совершается развитие производительных сил у данного народа и которая сама создана в последней инстанции развитием тех же сил у других народов, т. е. той же общей причиной.
Наконец, влияние особенных причин дополняется действием причин единичных, т. е. личных особенностей общественных деятелей и других «случайностей», благодаря которым события получают, наконец, свою индивидуальную физиономию. Единичные причины не могут произвести коренных изменений в действии общих и особенных причин, которыми к тому же обусловливаются направление и пределы влияния единичных причин. Но всё-таки несомненно, что история имела бы другую физиономию, если бы влиявшие на неё единичные причины были заменены другими причинами того же порядка.
Моно и Лампрехт до сих пор стоят на точке зрения человеческой природы. Лампрехт категорически и не однажды заявлял, что, по его мнению, социальная психика составляет коренную причину исторических явлений. Это большая ошибка, и благодаря такой ошибке само по себе очень похвальное желание принимать в соображение «всю совокупность общественной жизни» может привести лишь к бессодержательному, хотя и пухлому эклектизму или — у наиболее последовательных — к рассуждениям à la Каблиц о сравнительном значении ума и чувства. Но вернёмся к нашему предмету. Великий человек велик не тем, что его личные особенности придают индивидуальную физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин. Карлейль в своём известном сочинении о героях называет великих людей начинателями (Beginners). Это очень удачное название. Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берёт на себя почин удовлетворения этих нужд. Он — герой. Не в том смысле герой, что он будто бы может остановить или изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является сознательным и свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода. В этом — всё его значение, в этом — вся его сила. Но это — колоссальное значение, страшная сила.
Что такое этот естественный ход событий? Бисмарк говорил, что мы не можем делать историю, а должны ожидать, пока она сделается. Но кем же делается история? Она делается общественным человеком, который есть её единственный «фактор». Общественный человек сам создаёт свои, т. е. общественные, отношения. Но если он создаёт в данное время именно такие, а не другие отношения, то это происходит, разумеется, не без причины; это обусловливается состоянием производительных сил. Никакой великий человек не может навязать обществу такие отношения, которые уже не соответствуют состоянию этих сил или ещё не соответствуют ему. В этом смысле он, действительно, не может делать историю, и в этом случае он напрасно стал бы переставлять свои часы: он не ускорил бы течения времени и не повернул бы его назад. Тут Лампрехт совершенно прав: даже находясь на вершине своего могущества, Бисмарк не мог бы вернуть Германию к натуральному хозяйству.
В общественных отношениях есть своя логика: пока люди находятся в данных взаимных отношениях, они непременно будут чувствовать, думать и поступать именно так, а не иначе. Против этой логики тоже напрасно стал бы бороться общественный деятель: естественный ход вещей (т. е. эта же логика общественных отношений) обратил бы в ничто все его усилия. Но если я знаю, в какую сторону изменяются общественные отношения, благодаря данным переменам в общественно-экономическом процессе производства, то я знаю также, в каком направлении изменится и социальная психика; следовательно, я имею возможность влиять на неё. Влиять на социальную психику — значит влиять на исторические события. Стало быть, в известном смысле я всё-таки могу делать историю, и мне нет надобности ждать, пока она «сделается».
Моно полагает, что действительно важные в истории события и личности важны только как знаки и символы развития учреждений и экономических условий. Это — справедливая, хотя и очень неточно выраженная мысль, но именно потому, что это справедливая мысль, неосновательно противопоставление деятельности великих людей «медленному движению» названных условий и учреждений. Более или менее медленное изменение «экономических условий» периодически ставит общество в необходимость более или менее быстро переделать свои учреждения. Такая переделка никогда не происходит «сама собою» — она всегда требует вмешательства людей, перед которыми возникают, таким образом, великие общественные задачи. Великими деятелями и называются те, которые больше других способствуют их решению. А решить задачу не значит быть только «символом» и «знаком» того, что она решена.
Нам кажется, впрочем, что Моно сделал своё противопоставление главным образом потому, что увлёкся приятным словечком «медленные». Это словечко любят очень многие современные эволюционисты. Психологически такое пристрастие понятно: оно необходимо родится в благонамеренной среде умеренности и аккуратности… Но логически оно не выдерживает критики, как это показал ещё Гегель.
И не для одних только «начинателей», не для одних «великих» людей открыто широкое поле действия. Оно открыто для всех, имеющих очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить своих ближних. Понятие великий есть понятие относительное. В нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому выражению, «полагает душу свою за други своя».
ПРИМЕЧАНИЯ
Произведение Плеханова «К вопросу о роли личности в истории» впервые опубликовано в журнале «Научное обозрение» № 3 и 4 за 1898 г. Перепечатано в трёх изданиях сборника «За двадцать лет» — в 1905, 1906 и 1908 гг. Вошло в VIII том Сочинений Плеханова.
В основу настоящего издания положен текст публикации работы в 1941 г., выверенный по полной, хорошо сохранившейся рукописи, по публикациям в «Научном обозрении» и в первом издании сборника «За двадцать лет», корректуры которого, согласно сохранившейся в архиве переписке, посылались Плеханову. При сверке с рукописью, помимо серьёзных разночтений, выявился ряд грубых ошибок в именах и датах, повторявшихся во всех прижизненных и посмертных изданиях. Все эти ошибки после тщательной проверки по разным источникам исправлены, и восстановлен подлинный плехановский текст.
1 Статья Каблица опубликована в № 6 и 7 литературно-политической газеты «Неделя» за 1878 г. В 1882 г. упомянутая статья вошла в основной труд Каблица «Социологические очерки. Основы народничества».
2 «Почтенный социолог» — Н. К. Михайловский, который сейчас же после опубликования статьи Каблица откликнулся на неё в своих «Литературных заметках 1878 г.» (см. Полное собрание сочинений, т. IV, Спб. 1897, стр. 539–546).
3 Квиетизм — мистическая доктрина, появившаяся в конце XVII в., согласно которой все поступки человека определяются божественной волей. Отсюда фаталистическая проповедь безучастного, мистически-созерцательного отношения к жизни, пассивности, «непротивления злу» и т. д.
4 Спор с Прайсом зафиксирован в книге Пристли «Свободная дискуссия об учении материализма и о философской необходимости в переписке между д-ром Прайсом и Пристли, к которой прибавлено д-ром Пристли введение, поясняющее сущность искуссии, и письма к некоторым писателям, которые приняли участие в этой дискуссии, относящейся к материи и духу», Лондон 1778.
5 Нецессарианцы — христианская секта, отрицавшая свободу воли и считавшая, что нравственные существа действуют не свободно, а по необходимости.
6 Пуритане — сторонники кальвинизма в Англии и Шотландии в XVI и XVII вв. Сыграли большую роль в подготовке и проведении английской буржуазной революции XVII в.
7 Апогей — наибольшее, перигей — наименьшее отстояние Луны от Земли.
8 Русские субъективисты, сторонники субъективного метода в социологии, Лавров, Михайловский, Кареев и др. считали, что в построении науки об обществе главную роль должно играть не понимание исторической необходимости, а критерий желаемого, «идеального» и т. п.
9 Плеханов намекает здесь на рассказ Тургенева «Гамлет Щигровского уезда».
10 Учитель, русские ученики — условное обозначение Маркса и его последователей в России, применявшееся в легальной печати с целью обойти цензуру.
11 См. Гегель, Соч., т. V, Соцэкгиз, 1937, стр. 693.
12 Бомарше восставал против классической трагедии, выводящей в качестве героев королей и придворную знать и заимствующей сюжеты главным образом из античной жизни. Он требовал реалистической драмы, изображающей обыкновенных, невыдуманных людей. Тьерри в «Lettres sur l'histoire de France», Lettre I, Paris 1856, характеризуя произведения, именуемые «Историей Франции», пишет: «В этих пышных повествованиях, где небольшое число привилегированных персонажей занимают целиком, всю историческую сцену, заслоняя всю массу нации придворными мантиями, мы не находим ни серьёзного поучения, ни полезных уроков, адресованных нам, ни того интереса и симпатии, которые обычно вызывает в нас судьба нам подобных…» (стр. 13). Эти рассуждения перекликаются с высказываниями Бомарше: «Что мне, мирному подданному монархического государства XVIII века, до революций в Афинах и Риме? Могу ли я находить серьёзный интерес в смерти некоего пелопонесского тирана, в принесении в жертву молодой принцессы в Авлиде? Меня всё это совершенно не касается, никакая мораль меня не трогает» («Essais sur le genre dramatique serieux»).
13 В 20-х годах XIX столетия Тьер и Минье занялись историей французской буржуазной революции. Тьер написал многотомный труд «История французской революции (1788–1799)», выходивший с 1823 по 1827. Минье в 1824 г. опубликовал двухтомный труд — «История французской революции». Эти произведения явились первой реабилитацией революции с точки зрения буржуазии и первыми трудами по истории революции, проникнутыми идеей причинности.
Во всех изданиях настоящей работы фамилия Тьера отсутствует, но в рукописи она имеется.
14 Плеханов имеет в виду следующие высказывания Шатобриана, близкие к теории Михайловского о «правде-истине» и «правде-справедливости» (даем цитату в переводе): «Нет, если отделять моральную правду от человеческих действий, у нас не останется мерила для суждения о них; если отсекать моральную правду от правды политической, последняя лишится своей базы; тогда не будет никаких оснований свободу предпочитать рабству, порядок — анархии. Мой интерес! — говорите вы. А кто вам сказал, что мой интерес в свободе и порядке?» и т. д. (Oeuvres completes de Chateaubriand, Paris 1860, t. VII, p. 59).
15 Во всех изданиях ошибочно «Тьерри». Исправлено по рукописи.
16 «Le Globe» («Глобус», или «Земной шар») — журнал, основанный в Париже в 1824 г. Пьером Леру. До 1830 г. он выходил как журнал чисто философский и литературный, в 1831 г. перешёл к сен-симонистам. Издание прекратилось в 1832 г.
17 Во всех изданиях, кроме издания 1941 г., частично исправленного по рукописи, ошибочно не «Тьера», а «Минье».
18 Война за Австрийское наследство (1740–1748) велась между Австрией, которую поддерживали Англия и Голландия, а затем и Россия, с одной стороны, и Пруссией, Испанией, Францией и некоторыми германскими и итальянскими государствами — с другой. Противники Австрии оспаривали часть её владений после смерти императора Карла VI. В результате войны Австрия потеряла большую часть промышленной Силезии, отошедшую к Пруссии, и некоторые владения в Италии.
19 По Ахенскому миру 1748 г. Франция должна была уступить неприятелю все свои завоевания в Нидерландах.
20 Семилетняя война (1756–1763) — война между Пруссией, Англией и Португалией, с одной стороны, и Францией, Австрией, Россией, Саксонией и Швецией — с другой. Главными причинами её были: стремление Австрии вернуть Силезию (см. прим. 18 к этой же странице) и англо-французское соперничество из-за колоний в Канаде и Индии.
21 В результате Семилетней войны Франция была вытеснена Англией из Канады и Индии.
22 Вступление на русский престол поклонника Фридриха II — Петра III, прекратившего войну, дало возможность Пруссии удержать Силезию по Губертусбургскому миру 1763 г.
23 Приводим вариант этого места: «Эти возражения Сент-Бёва могут считаться самыми удачными изо всех тех, которые до сих пор выдвигались против учения о законосообразности общественно-исторического развития. Они очень остроумны. Надо сознаться, что сторонники
названного учения больше обходили, чем разбирали, эти возражения и подобные им, до сих пор часто приводимые в журнальных статьях и учёных сочинениях».
24 Неорганизованным полчищам персов в греко-персидских войнах противопоставляются армии французского маршала Тюрэнна и шведского короля Густава II Адольфа в Тридцатилетней войне (1618–1648).
25 Во всех изданиях ошибочно «madame du Haliffet». Исправлено по рукописи на «madame du Hausset», которая была камеристкой маркизы де Помпадур и оставила свои мемуары.
26 21 января 1793 г. — день казни французского короля Людовика XVI.
27 Термидорианская реакция — политическая и социальная реакция, последовавшая после контрреволюционного переворота во Франции 27 июля 1794 г. (9 термидора), положившего конец диктатуре мелкой буржуазии и возведшего на эшафот её вождя Робеспьера.
Термидор, флореаль, прериаль, мессидор, брюмер и т. д. — названия месяцев республиканского календаря, введённого Конвентом осенью 1793 г.
28 Упорное сражение Наполеона с австрийцами 15–17 ноября 1796 г. при итальянском местечке Арколе дало французскому войску нравственный перевес над противником; Наполеон с этого времени повёл свои войска от победы к победе вплоть до 1812 г., когда похоронил свою армию в русских снегах.
29 18 брюмера (9 ноября 1799) — день государственного переворота, совершённого Наполеоном Бонапартом. Этот переворот привёл к уничтожению режима Директории и созданию Консульства, а затем и империи.
30 Директория — правительство, установившееся во Франции после 9 термидора и просуществовавшее от октября 1795 г. до ноября 1799 г.
31 Во всех изданиях ошибочно: «генерал Журдан». Исправлено по рукописи. При Нови был убит генерал Жубер, и именно о нём говорится в книге Брока, на которую ссылается Плеханов.
32 Тюльери — королевский дворец в Париже. Во время буржуазной революции конца XVIII в. дворец был захвачен народом, и в нём заседал Конвент. В дальнейшем он снова стал императорской и королевской резиденцией.
33 Дальше в рукописи идёт следующее вычеркнутое место: «Кто знает, сколько военных талантов осталось бы в неизвестности благодаря «старому порядку», который делал доступными высшие места в армии одной аристократии. Кто знает, сколько великих научных и художественных способностей остаётся в состоянии незаметного зачатка в нашей крестьянской [среде]».
Приводим вариант дальнейшего текста: «Давно уже было замечено, что таланты являются всюду, где возникает серьёзный спрос на них. Это значит, что таланты являются везде, где есть условия, благоприятные для их развития. О талантах можно сказать, что они, как и несчастья, ходят толпой. Вспомните, какое множество военных талантов выдвинулось во Франции вместе с Наполеоном; какое огромное число выдающихся живописцев и скульпторов появилось в Италии во время Возрождения; как много замечательных драматургов было в Англии одновременно с Шекспиром. Разумеется, не все эти таланты были одинаково велики…».
34 Сведения об упоминаемых в настоящем примечании лицах и датах их рождения (иногда неточные) заимствованы Плехановым из книги: Eugene Fromentin, Les Maîtres d'autrefois. Belgique — Hollande, 9 éd., Paris 1896, p. 174 [E. Фромантэн, Старые бельгийские и голландские мастера, 9-е изд., Париж 1896, стр. 174]. Ошибочные даты исправлены, пропуски восстановлены по источнику.
35 «Système de la nature» («Система природы») — главное произведение Гольбаха.
36 Приводим вариант этого места: «Они склонны были думать, что исторические события ни в каком случае не могли бы пойти иначе, чем шли на самом деле. Гизо замечает в одной из своих политических брошюр, что Наполеон был силён только до тех пор, пока выражал собою общественные нужды Франции, а когда перестал выражать их, то одного дня (сражения при Ватерлоо) было достаточно, чтобы с этим покончить. И это, разумеется, верно. Но, возникнув как реакция против исторических взглядов восемнадцатого века, этот и подобные ему верные взгляды историков новой школы явились в виде резкой крайности, вовсе не оставляющей места для той доли истины, которая заключалась в противоположной крайности».