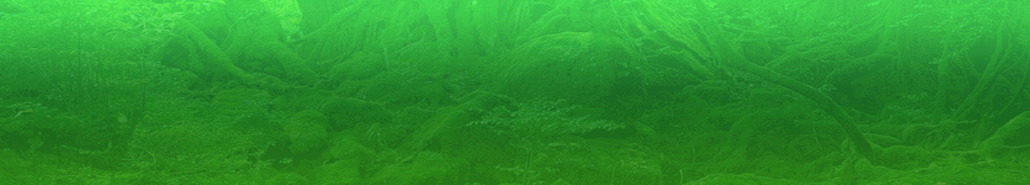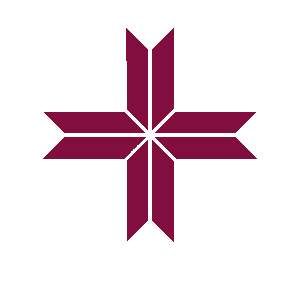ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Материалисты XVIII века были твёрдо уверены, что им удалось нанести смертельный удар идеализму. Они смотрели на него как на устарелую, навсегда покинутую теорию. Но уже в конце того века начинается реакция против материализма, а в первой половине XIX столетия сам материализм попадает в положение системы, которую все считают устарелой, окончательно похороненной. Идеализм не только снова воскресает к жизни, но и получает небывалое, поистине блестящее развитие. На это были, конечно, свои общественные причины, но мы, не касаясь их здесь, рассмотрим только, имел ли идеализм XIX века какие-нибудь преимущества перед материализмом предыдущей эпохи, и если да, то в чём эти преимущества заключались.
Французский материализм обнаруживал поразительную, просто мало вероятную ныне, слабость всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с вопросами развития в природе или в истории. Возьмём хоть происхождение человека. Хотя мысль о постепенном развитии этого вида и не казалась материалистам «противоречивой», но они считали такую «догадку» очень мало вероятной. Авторы «Système de la nature» («Система природы». — Ред.) (см. шестую главу первой части) говорят, что если бы кто-нибудь восстал против подобной догадки, если бы кто-нибудь возразил, «что природа действует с помощью известной суммы общих и неизменных законов», и прибавил при этом, что «человек, четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века и остаются вечно неизменными», то они «не воспротивились бы и этому». Они заметили бы только, что и такой взгляд не противоречит излагаемым ими истинам. «Человеку не дано знать всё: ему не дано знать своё
происхождение», — вот всё, что говорят, в конце концов, авторы «Système de la nature» по поводу этого важного вопроса.
Гельвеций как будто больше склоняется к мысли о постепенном развитии человека. «Материя вечна, но формы её изменчивы», — замечает он, напоминая, что и теперь человеческие породы видоизменяются действием климата 1. Он даже вообще считает изменчивыми все животные виды. Но эта здравая мысль формулируется им очень странно. У него выходит, что причины «несходства» между различными видами животных и растений лежат или уже в свойстве их зародышей, или в различии окружающей их среды, в различии их «воспитания» 2.
Наследственность исключает таким образом изменчивость и наоборот. Приняв теорию изменчивости, мы должны, следовательно, предположить, что из каждого данного «зародыша» может получиться при надлежащей обстановке любое животное или растение: из зародыша дуба, например, бык или жирафа. Само собой разумеется, что подобная «догадка» не могла пролить света на вопрос о происхождении видов, и сам Гельвеций, раз высказав её мимоходом, уже не возвращается к ней ни разу.
Столь же плохо умели объяснить французские материалисты и явления общественного развития. Различные системы «законодательства» изображаются ими исключительно как плод сознательной творческой деятельности «законодателей»; различные религиозные системы — как плод хитрости жрецов и т. д.
Это бессилие французского материализма перед вопросами развития в природе и в истории делало очень бедным его философское содержание. В учении о природе содержание это сводилось к борьбе против одностороннего
1 «Le vrai sens du système de la nature», a Londres 1774, p. 15 («Истинный смысл системы природы», Лондон 1774, стр. 15. — Ред.).
2 «De l'homme», Œuvres complètes de Helvétius, Paris 1818, v. II, p. 120 («О человеке». Полное собрание сочинений Гельвеция, Париж 1818, т. II, стр. 120. — Ред.).
понятия дуалистов о материи; в учении о человеке оно ограничилось бесконечным повторением и некоторым видоизменением локковского положения: нет врождённых идей. Как ни полезно было такое повторение в борьбе против отживших нравственных и политических теорий, — серьёзное научное значение оно могло иметь только в том случае, если бы материалистам удалось применить свою мысль к объяснению духовного развития человечества. Мы уже сказали выше, что некоторые, очень замечательные попытки сделаны были в этом направлений французскими материалистами (т. е., собственно, Гельвецием), но что они окончились неудачей (а если бы они удались, то французский материализм оказался бы очень сильным в вопросах развития), и материалисты, в своём взгляде на историю, стали на чисто идеалистическую точку зрения: мнения правят миром. Лишь по временам, лишь очень редко материализм врывался в их исторические рассуждения в виде замечаний на ту тему, что один какой-нибудь шальной атом, попавший в голову «законодателя» и причинивший в ней расстройство мозговых отправлений, может на целые века изменить ход истории. Такой материализм был в сущности фатализмом и не оставлял места для предвидения событий, т. е., иначе сказать, для сознательной исторической деятельности мыслящих личностей.
Неудивительно поэтому, что способным и талантливым людям, не вовлечённым в ту борьбу общественных сил, в которой материализм являлся страшным теоретическим оружием крайней левой партии, это учение казалось сухим, мрачным, печальным. Так отзывался о нём, например, Гёте. Чтобы этот упрёк перестал быть заслуженным, материализм должен был покинуть сухие, отвлечённые рассуждения и попытаться понять и объяснить с своей точки зрения «живую жизнь», сложную и пёструю цепь конкретных явлений. Но в своём тогдашнем виде он неспособен был решить эту великую задачу, и ею овладела идеалистическая философия.
Главным, конечным звеном в развитии этой философии является гегелевская система, поэтому мы и будем указывать преимущественно на неё в нашем изложении.
Гегель называл метафизической точку зрения тех мыслителей, — безразлично идеалистов или материалистов, — которые, не умея понять процесса развития явлений, поневоле представляют их себе и другим как застывшие, бессвязные, неспособные перейти одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил диалектику, которая изучает явления именно в их развитии и, следовательно, в их взаимной связи.
По Гегелю, диалектика есть принцип всякой жизни. Нередко встречаются люди, которые, высказав известное отвлечённое положение, охотно признают, что, может быть, они ошибаются и что, может быть, правилен прямо противоположный взгляд. Это — благовоспитанные люди, до конца ногтей проникнутые «терпимостью»: живи и жить давай другим, — говорят они своему рассудку. Диалектика не имеет ничего общего со скептической терпимостью светских людей, но и она умеет соглашать прямо противоположные отвлечённые положения. Человек смертен, — говорим мы, рассматривая смерть, как нечто коренящееся во внешних обстоятельствах и совершенно чуждое природе живого человека. Выходит, что у человека есть два свойства: во-первых, быть живым, а во-вторых — быть также и смертным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что жизнь сама носит в себе зародыши смерти и что вообще всякое явление противоречиво в том смысле, что оно само из себя развивает те элементы, которые, рано или поздно, положат конец его существованию, превратят его в его собственную противоположность. Всё течёт, всё изменяется, и нет силы, которая могла бы задержать это постоянное течение, остановить это вечное движение; нет силы, которая могла бы противиться диалектике явлений. Гёте олицетворяет диалектику в образе духа:
|
In Lebensfluthen, im Thatensturm Wall' ich auf und ab, Webe hin und her! Geburt und Grab — Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben! |
|
So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit Und würke der Gottheit lebendiges Kieid 1. |
В данную минуту движущееся тело находится в данной точке, но в то же время находится и вне её, потому что, если бы оно находилось только в ней, оно, по крайней мере на это мгновение, стало бы неподвижным. Всякое движение есть диалектический процесс, живое противоречие, а так как нет ни одного явления природы, при объяснении которого нам не пришлось бы в последнем счёте апеллировать к движению, то надо согласиться с Гегелем, который говорил, что диалектика есть душа всякого научного познания. И это относится не только к познанию природы. Что означает, например, старый афоризм: summum jus summa injuria (высшее право — высшее бесправие. — Ред.)? То ли, что справедливее всего мы поступаем тогда, когда, отдавши дань праву, мы в то же время отдадим должное н бесправию? Нет, так рассуждает только «пошлый опыт, ум глупцов». Этот афоризм означает, что всякое отвлечённое право, дойдя до своего логического конца, превращается в бесправие, т. е. в свою собственную противоположность. «Венецианский купец» Шекспира служит этому блестящей иллюстрацией. Взгляните теперь на экономические явления. Каков логический конец «свободного соперничества»? Каждый предприниматель стремится побить своих соперников, остаться единоличным хозяином рынка. И, конечно, нередки случаи, когда какому-нибудь Ротшильду или Вандербильту удаётся счастливо осуществить это стремление. Но это показывает, что свободное соперничество ведёт к монополии, то есть к отрицанию соперничества, т. е.
В буре деяний, в волнах бытия
Я подымаюсь,
Я опускаюсь…
Смерть и рождение —
Вечное море;
Жизнь и движение
В вечном просторе…
Так на станке преходящих веков
Тку я живую одежду богов.
к своей собственной противоположности. Или посмотрите, к чему ведёт прославленный нашей народнической литературою так называемый трудовой принцип собственности. Мне принадлежит только то, что создано моим трудом. Это как нельзя более справедливо. И не менее справедливо то, что я употребляю созданную мною вещь по своему свободному усмотрению: я пользуюсь ею сам или меняю её на другую вещь, почему-либо для меня желательную. Столь же справедливо, наконец, и то, что я пользуюсь вымененною мною вещью опять-таки по своему свободному усмотрению, — как мне приятнее, лучше, выгоднее. Положим теперь, что я продал продукт моего собственного труда за деньги, а деньги употребил на наём работника, т. е. купил чужую рабочую силу. Воспользовавшись этой чужой силой, я оказываюсь владельцем стоимости, которая значительно выше стоимости, израсходованной мною на её покупку. Это, с одной стороны, очень справедливо, так как ведь уже признано, что я могу пользоваться вымененною вещью, как мне лучше и выгоднее, а с другой стороны, это очень несправедливо, потому что я эксплоатирую чужой труд и тем отрицаю тот принцип, который лежал в основе моего понятия о справедливости. Собственность, приобретённая моим личным трудом, родит мне собственность, созданную трудом другого. Summum jus summa injuria. И такая injuria самою силой вещей порождается в хозяйстве чуть ли не каждого зажиточного кустаря, чуть не каждого исправного сельского домохозяина 1.
1 Г. Михайловскому кажется непонятным это вечное и повсюдное господство диалектики; всё изменяется, кроме законов диалектического движения, — говорит он с ехидным скептицизмом. Да, это именно так, отвечаем мы, и если вас это удивляет, если вы хотите оспаривать этот взгляд, то помните, что вам придётся оспаривать основную точку зрения современного естествознания. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно припомнить те слова Пляйфайра, которые Ляйелль взял эпиграфом к своему знаменитому сочинению «Principles of Geology»: «Amid the revolutions of the globe, the economy of Nature has been uniform and her laws are the only that have resisted the general movement. The rivers and the rocks, the seas and the continents have been changed in all their parts; but the laws which direct these changes, and the rules to which they are subject, have remained invariably the same» («Принципы
Итак, каждое явление действием тех самых сил, которые обусловливают его существование, рано или поздно, но неизбежно превращается в свою собственную противоположность.
Мы сказали, что идеалистическая немецкая философия смотрела на все явления с точки зрения их развития и что это-то и значит смотреть на них диалектически. Нужно заметить, что метафизики умеют искажать и самое учение о развитии. Они твердят, что ни в природе, ни в истории скачков не бывает. Когда они говорят о возникновении какого-нибудь явления или общественного учреждения, они представляют дело так, как будто это явление или учреждение было когда-то очень маленьким, совсем незаметным, а потом постепенно подрастало. Когда речь идёт об уничтожении того же явления и учреждения, предполагается, наоборот, постепенное его уменьшение, продолжающееся до тех пор, пока явление станет совсем незаметным в силу своих микроскопических размеров. Понимаемое таким образом развитие ровно ничего не объясняет; оно предполагает существование тех самых явлений, которые оно должно объяснить, и считается лишь с совершающимися в них количественными изменениями. Господство метафизического мышления было когда-то так сильно в естествознании, что многие натуралисты иначе и не могли представить себе развитие, как именно в виде такого постепенного увеличения или уменьшения размеров изучаемого явления. Хотя уже со времён Гарвея было признано, что «всё живое развивается из яйца», но с таким развитием из яйца, очевидно, не связывалось никакого точного представления, и открытие сперматозоидов тотчас послужило поводом к возникновению теории, по которой в семенной клеточке уже заключается готовое, совершенно развившееся, но микроскопически маленькое животное, так что всё «развитие»
геологии»: «В то время как земной шар претерпевал перемены, устройство природы пребывало единообразным и единственно её законы противостояли общему движению. Реки и скалы, моря и континенты изменялись во всех своих частях; но законы, управляющие этими изменениями, и правила, которым они подчинены, остались неизменно одними и теми же». — Ред.).
его сводится к росту. Совершенно так рассуждают теперь мудрые старцы, а в их числе многие знаменитые европейские социологи-эволюционисты, о «развитии», например, политических учреждений: история скачков не делает: va piano… (тише едешь… — Ред.)
Немецкая идеалистическая философия решительно восстала против такого уродливого понятия о развитии. Гегель язвительно осмеивал его и неопровержимо доказал, что и в природе, и в человеческом обществе скачки составляют такой же необходимый момент развития, как и постепенные количественные изменения. «Изменения бытия, — говорит он, — состоят не только в том, что одно количество переходит в другое количество, но также и в том, что качество переходит в количество и, наоборот, каждый из переходов этого последнего рода составляет перерыв постепенности (ein Abbrechen des Allmählichen) и даёт явлению новый вид, качественно отличный от прежнего. Так, вода при охлаждении твердеет не постепенно… а сразу; уже охладившись до точки замерзания, она остаётся жидкостью, если только сохраняет спокойное состояние, и тогда достаточно малейшего толчка, чтобы она вдруг сделалась твёрдой… В мире нравственных явлений… имеют место такие же переходы количественного в качественное, или, иначе сказать, различия в качествах и там основываются на количественных различиях. Так, немножко меньше, немножко больше составляют ту границу, за которой легкомыслие перестаёт быть легкомыслием и превращается в нечто совершенно другое, в преступление… Так, государства при прочих равных условиях получают различный качественный характер лишь вследствие различий в величине. Данные законы и данное государственное устройство приобретают совершенно другое значение с расширением территории государства и численности его граждан…» 1
Современные натуралисты прекрасно знают, как часто изменения количества ведут к изменениям качества. Почему одна часть солнечного спектра производит на нас
1 «Wissenschaft der Logik» («Наука логики». — Ред.), изд. 1, ч. I, книга I, стр. 313–314.
ощущение красного цвета, другая — зелёного и т. д.? Физика отвечает, что тут всё дело в числе колебаний частиц эфира. Известно, что число это изменяется для каждого спектрального цвета, возрастая от красного к фиолетовому. Это не всё. Напряжение теплоты в спектре увеличивается по мере приближения к наружному краю красной полосы и достигает наибольшей степени на некотором расстоянии от него, по выходе из спектра. Выходит, что в спектре имеются особого рода лучи, которые уже не светят, а только греют. Физика и здесь говорит, что качества лучей изменяются вследствие изменения числа колебаний частиц эфира.
Но и это не всё. Солнечные лучи производят известное химическое действие, как это показывает, например, линяние материй от солнца. Наибольшей химической силой отличаются фиолетовые и так называемые за-фиолетовые лучи, которые уже не вызывают в нас светового ощущения. Различие в химическом действии солнечных лучей объясняется опять-таки не чем иным, как количественными различиями в колебаниях частиц эфира: количество переходит в качество.
То же подтверждает и химия. Озон имеет другие свойства, чем обыкновенный кислород. Откуда это различие? В молекуле озона иное число атомов, чем в молекуле обыкновенного кислорода. Возьмём три углеводородистых соединения: СН4 (болотный газ), C2H6 (диметил) и С3Н8 (метил-этил). Все они составлены по формуле: n атомов углерода и 2n+2 атома водорода. Если n равно единице, вы имеете болотный газ; если n равно двум, получается диметил; если n равно трём, является метил-этил. Таким образом составляются целые ряды, о значении которых вам расскажет любой химик, и все эти ряды единогласно подтверждают положение старых диалектиков-идеалистов: количество переходит в качество.
Теперь мы узнали уже главнейшие отличительные признаки диалектического мышления, но читатель чувствует себя неудовлетворённым. А где же знаменитая триада, спрашивает он, та триада, в которой заключается, как известно, вся суть гегелевской диалектики? Извините, читатель, мы не говорили о триаде по той простой
причине, что она вовсе не играет у Гегеля той роли, которую ей приписывают люди, не имеющие никакого понятия о философии этого мыслителя, изучавшие её, например, по «учебнику уголовного права» г. Спасовича 1. Полные святой простоты, эти легкомысленные люди убеждены, что вся аргументация немецкого идеалиста сводилась к ссылкам на триаду; что с каким бы теоретическим затруднением ни сталкивался старик, он с спокойной улыбкой предоставлял другим ломать над ним свои бедные, «непосвящённые» головы, а сам немедленно строил силлогизм: все явления совершаются по триаде; я имею дело с явлением; следовательно, обращусь к триаде 2. Это просто сумасшедшие пустяки, как выражается один из персонажей Каренина, или неестественное празднословие, если вам больше нравится щедринское выражение. Ни в
1 «Мечтая о карьере адвоката, — рассказывает г. Михайловский, — я с жаром, хотя и без всякого порядка, читал разные юридические сочинения. В том числе был учебник уголовного права г. Спасовича. В этом сочинении есть краткий обзор различных философских систем в их отношении к криминалистике. Я в особенности поразился знаменитою триадой Гегеля, в силу которой наказание так грациозно становится примирением противоречия между правом и преступлением. Известна соблазнительность трёхчленной формулы Гегеля в её разнообразнейших приложениях… неудивительно, что я был пленён ею в учебнике г. Спасовича. Неудивительно, что затем потянуло и к Гегелю, и ко многому другому…» («Русская Мысль», 1891, кн. III, отд. II, стр. 188.) Жаль, очень жаль, что г. Михайловский не сообщает, в каких размерах удовлетворил он своё тяготение «к Гегелю». По всему видно, что он недалеко пошёл в этом отношении.
2 Г. Михайловский уверяет, что покойный Н. Зибер, доказывая в своих спорах с ним неизбежность капитализма в России, «употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трёхчленного диалектического развития» («Русская Мысль», 1892, кн. VI, отд. II, стр. 196). Он уверяет также, что всё, как он выражается, пророчество Маркса относительно исхода капиталистического развития опирается лишь на «триаду». О Марксе мы поговорим ниже, а о Н. Зибере заметим, что нам приходилось не раз беседовать с покойным, и ни разу не слышали мы от него ссылок на «диалектическое развитие». Он не раз сам говорил, что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Конечно, на мёртвых всё валить можно, и потому показание г. Михайловского неопровержимо.
одном из 18 томов сочинений Гегеля «триада» ни разу не играет роли довода, и кто хоть немного знаком с его философским учением, тот понимает, что она никоим образом не могла играть её. У Гегеля триада имеет такое же значение, какое она имела ещё у Фихте, философия которого существенно отличается от гегелевской. Понятно, что только круглое невежество может считать главным отличительным признаком одной философской системы признак, свойственный по меньшей мере двум совершенно различным системам.
Нам очень жаль, что «триада» отвлекает нас от нашего изложения, но, заговорив о ней, надо кончить. Посмотрим же, что это за птица.
Всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою противоположность; но так как новое, противоположное первому, явление также, в свою очередь, превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с первой. Оставим пока вопрос о том, насколько соответствует действительности такой ход развития; допустим, что ошибались люди, думавшие, что — совершенно соответствует; во всяком случае ясно, что «триада» вытекает только из одного из положений Гегеля, но сама вовсе не служит ему основным положением. Это очень существенная разница, потому что, если бы триада фигурировала в качестве основного положения, то под её «сенью» действительно могли бы искать защиты люди, отводящие ей такую важную роль, но так как она в этом качестве не фигурирует, то за неё могут прятаться разве лишь такие, которые слышали звон, да не знают, откуда он.
Само собою разумеется, что положение дел не изменилось бы в сущности ни на йоту, если бы, не прячась за «триаду», диалектики «при малейшей опасности» укрывались «под сенью» того положения, что всякое явление превращается в свою собственную противоположность. Но и так никогда не поступали они, и не поступали потому, что указанное положение вовсе не исчерпывает их взгляда на развитие явлений. Они говорят, например, кроме того, что в процессе развития количество переходит в качество, а качество в количество. Следовательно,
им приходится считаться и с качественной, и с количественной стороной процесса; а это предполагает внимательное отношение к его действительному, фактическому ходу; а это значит, что они не довольствуются отвлечёнными выводами из отвлечённых положений, или, по крайней мере, не должны довольствоваться такими выводами, если хотят остаться верными своему миросозерцанию.
«На каждой странице своих сочинений Гегель постоянно и неустанно указывал, что философия тождественна с совокупностью эмпирии, что философия ничего не требует так настойчиво, как углубления в эмпирические науки… Фактический материал без мысли имеет только относительное значение, мысль без фактического материала является простой химерой… Философия есть то сознание, к которому приходят относительно самих себя эмпирические науки. Она не может быть ничем иным».
Вот какой взгляд на задачу мыслящего исследователя вынес Лассаль из изучения гегелевской философии 1: философы должны быть специалистами в тех науках, которым они хотят помочь в достижении «самосознания». Кажется, от специального изучения предмета очень далеко до легкомысленной болтовни во славу «триады». И пусть не говорят нам, что Лассаль был не «настоящий» гегельянец, что он принадлежал к «левым» и резко упрекал «правых» в том, что они занимались отвлечёнными построениями. Ведь человек прямо говорит вам, что он заимствовал свой взгляд непосредственно от Гегеля.
Впрочем, вы, может быть, захотите отвести показание автора «Системы приобретённых прав» подобно тому, как отводят на суде показания родственников. Мы спорить и прекословить не станем; мы вызовем в качестве свидетеля совсем постороннего человека — автора «Очерков гоголевского периода».
Просим внимания: свидетель будет говорить долго и, по своему обыкновению, умно:
1 См. его «System der erworbenen Rechte», 2-te Aufl., Leipzig 1880, Vorrede, S. XII–XIII («Система приобретённых прав», изд. 2, Лейпциг 1880, Предисловие, стр. XII–XIII — Ред.).
«Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевской системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительною силою. Из этих истин открытие иных составляет личную заслугу Гегеля; другие, хотя и принадлежат не исключительно его системе, а всей немецкой философии со времён Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе.
«Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в особенности гегелева система от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «Истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине — благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времён Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением» (святители!
Да уж не за то ли ругают Гегеля схоластиком наши субъективные мыслители? — Автор), философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. (Слушайте! Слушайте!) Как необходимое предохранительное средство против поползновения уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать: нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом мыслитель был принуждён обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных, противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая её в угодность собственным односторонним предубеждениям (De te fabula narratur!) (О тебе басня рассказывается. — Ред.). Таким образом добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности всё зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие отвлечённые изречения неудовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет своё собственное значение, и судить о нём должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулою: «отвлечённой истины нет; истина конкретна», т. е. определительное суждение можно произносить
только об определённом факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» 1.
Итак, с одной стороны, нам говорят, что отличительной чертой гегелевой философии было самое внимательное исследование действительности; самое добросовестное отношение ко всякому данному предмету; изучение его среди его живой обстановки, при всех тех обстоятельствах времени и места, которые обусловливают или сопровождают его существование. Показание Н. Г. Чернышевского тождественно в этом случае с показаниями Ф. Лассаля. А с другой стороны, нас хотят уверить, что эта философия была пустой схоластикой, весь секрет которой состоял в софистическом употреблении «триады». В этом случае показание г. Михайловского совершенно согласно с показанием г. В. В. и целого легиона других современных российских писателей. Чем объяснить это
1 Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы, СПБ 1892, стр. 258–259. В особом примечании автор «Очерков» прекрасно поясняет, что собственно означает это рассмотрение всех обстоятельств, от которых зависит данное явление. Мы приведём и это примечание. «Например: «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлечённый; определённо отвечать на него нельзя, иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надо спрашивать определённо: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шёл сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шёл проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ также ясен и также справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идёт дело; все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества. — Таков смысл аксиомы: «отвлечённой истины нет; истина — конкретна»; конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлечённое мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни)».
разногласие свидетелей? Объясняйте, чем хотите, но помните, что Лассаль и автор «Очерков гоголевского периода» знали ту философию, о которой говорили, а гг. Михайловский, В. В. и братия наверное не дали себе труда изучить хотя бы какое-нибудь одно сочинение Гегеля.
И заметьте, что при характеристике диалектического мышления автор «Очерков» ни одним словом не коснулся триады. Как же это он не заметил того самого слона, которого г. Михайловский и компания так упорно и так торжественно выставляют напоказ всем зевакам? Ещё раз: помните, что автор «Очерков гоголевского периода» знал философию Гегеля, а г. Михайловский и К° не имеют о ней ни малейшего понятия.
Может быть, читателю угодно припомнить кое-какие другие отзывы автора «Очерков гоголевского периода» о Гегеле? Может быть, он укажет нам на знаменитую статью «Критика философских предубеждений против общинного землевладения»? В этой статье говорится именно о триаде и, по-видимому, она выставляется главным коньком немецкого идеалиста. Но это только по-видимому. Рассуждая об истории собственности, автор утверждает, что в третьей, высшей фазе своего развития она вернётся к своей исходной точке, т. е., что частная собственность на землю и средства производства уступит место общественной. Такой возврат, говорит он, есть общий закон, проявляющийся во всяком процессе развития. Аргументация автора есть в данном случае, действительно, не что иное, как ссылка на триаду. И в этом заключается её существенный недостаток: она отвлечённа: развитие собственности рассматривается без отношения её к конкретным историческим условиям; поэтому и доводы автора остроумны, блестящи, но неубедительны; они только поражают, удивляют, но не убеждают. Но виноват ли Гегель в этом недостатке аргументации автора «Критики философских предубеждений»? Как вы думаете, была бы аргументация автора отвлечённа, если бы он рассмотрел предмет именно так, как, по его собственным словам, Гегель советовал рассматривать все предметы, т. е. держась почвы действительности, взвешивая
все конкретные условия, все обстоятельства времени и места? Кажется, что нет; кажется, что тогда-то именно и не было бы в статье указанного нами недостатка. Но в таком случае, чем же был порождён недостаток? Тем, что автор статьи «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», оспаривая отвлечённые доводы своих противников, позабыл благие советы Гегеля, оказался неверен методу того самого мыслителя, на которого он ссылался. Нам жаль, что в полемическом увлечении он сделал такую ошибку. Но ещё раз, виноват ли Гегель в том, что в этом случае автор «Критики философских предубеждений» не сумел воспользоваться его методом? С каких это пор философские системы оцениваются не по их внутреннему содержанию, а по тем ошибкам, которые случается делать ссылающимся на них людям?
И, опять-таки, как ни настойчиво ссылается автор названной статьи на триаду, он и там не выставляет её главным коньком диалектического метода; она и там является у него не основой, а разве что неоспоримым следствием. Основа, главная отличительная черта диалектики, указывается у него в следующих словах: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, рождённой известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания… — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто научился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие» и т. д.
«Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порождённой известным содержанием»… — диалектики действительно смотрят на такую смену, на такое «отвержение форм», как на великий, вечный, повсеместный закон. В настоящее время этого убеждения не разделяют с ними только представители некоторых отраслей общественной науки, не имеющие мужества взглянуть истине прямо в глаза, старающиеся отстоять, хотя бы с помощью заблуждения, дорогие им предрассудки. Тем более должны мы ценить заслуги великих немецких идеалистов, которые уже с самого начала нынешнего столетия неустанно твердили
о вечной смене форм, о вечном их отвержении, вследствие усиления породившего эти формы содержания.
Выше мы оставили «пока» без рассмотрения вопрос о том, точно ли всякое явление превращается, как это думали немецкие идеалисты-диалектики, в свою собственную противоположность. Теперь, надеемся, читатель согласится с нами, что собственно этот вопрос можно и совсем не рассматривать. Когда вы применяете диалектический метод к изучению явлений, вам необходимо помнить, что формы вечно меняются вследствие «высшего развития их содержания». Этот процесс отвержения форм вы должны проследить во всей его полноте, если хотите исчерпать предмет. Но будет ли новая форма противоположна старой, — это вам покажет опыт, и знать это наперёд вовсе неважно. Правда, именно на основании исторического опыта человечества всякий понимающий дело юрист скажет вам, что всякое правовое учреждение рано или поздно превращается в свою собственную противоположность: ныне оно способствует удовлетворению известных общественных нужд; ныне оно полезно, необходимо именно ввиду этих нужд. Потом оно начинает всё хуже и хуже удовлетворять эти нужды; наконец, оно превращается в препятствие для их удовлетворения: из необходимого оно становится вредным, — и тогда оно уничтожается. Возьмите, что хотите, — историю литературы, историю видов, и всюду, где есть развитие, вы увидите подобную диалектику. Но всё-таки, кто, пожелав вникнуть в сущность диалектического процесса, начал бы именно с проверки учения о противоположности явлений, стоящих рядом в каждом данном процессе развития, тот подошёл бы к делу с ненадлежащего конца.
В выборе точки зрения для такой проверки всегда оказалось бы очень много произвольного. Надо взглянуть на этот вопрос с его объективной стороны, иначе сказать, надо выяснить себе, что такое неизбежная смена форм, обусловливаемая развитием данного содержания? Это — та же самая мысль, только выраженная другими словами. Но при проверке её уже нет места произволу, потому что точка зрения исследователя определяется самим характером форм и содержания.
По словам Энгельса, заслуга Гегеля заключается в том, что он первый взглянул на все явления с точки зрения их развития, с точки зрения их возникновения и уничтожения. «Первый ли он это сделал, можно спорить, — говорит г. Михайловский, — но во всяком случае не последний, и нынешние теории развития — эволюционизм Спенсера, дарвинизм, идеи развития в психологии, физике, геологии и т. д. — не имеют ничего общего с гегельянством» 1.
Если современное естествознание на каждом шагу подтверждает гениальную мысль Гегеля о переходе количества в качество, то можно ли сказать, что оно не имеет ничего общего с гегельянством? Правда, Гегель не был «последним» из говоривших о таком переходе, но это именно по той же причине, по какой Дарвин не был «последним» из людей, говоривших об изменяемости видов, а Ньютон не был «последним» ньютонистом. Что прикажете? Таков уж ход развития человеческого разума! Выскажете вы правильную мысль, и вы наверное не будете «последним» из защищавших её; скажете вздор, — и хотя люди очень лакомы до него, но вы всё-таки рискуете оказаться «последним» его защитником и носителем. Так, по нашему скромному мнению, г. Михайловский сильно рискует оказаться «последним» сторонником «субъективного метода в социологии». Говоря откровенно, мы не видим повода печалиться о таком ходе развития разума.
Мы предлагаем г. Михайловскому, — который «может спорить» обо всём на свете и о многом прочем, — опровергнуть следующее наше положение: всюду, где является идея развития: «в психологии, физике, геологии и т. д.», она непременно имеет много «общего с гегельянством», т. е. в каждом новейшем учении о развитии непременно повторяются некоторые общие положения Гегеля. Говорим — некоторые, а не все, потому что многие из современных эволюционистов, будучи лишены надлежащего философского образования, понимают «эволюцию» отвлечённо, односторонне. Пример: уже помянутые
1 «Русское Богатство», 1894. кн. 2, отд. II, стр. 150.
выше господа, уверяющие, что ни природа, ни история скачков не делают. Такие люди очень много выиграли бы от знакомства с логикой Гегеля. Пусть опровергнет нас г. Михайловский, но только пусть не забывает он, что нельзя опровергнуть нас, зная Гегеля лишь по «учебнику уголовного права» г. Спасовича да по «Истории философии» Льюиса. Надо потрудиться изучить самого Гегеля.
Говоря, что современные учения эволюционистов всегда имеют очень много «общего с гегельянством», мы не утверждаем, что нынешние эволюционисты заимствовали свои взгляды у Гегеля. Совсем напротив. Часто они имеют о нём столь же ошибочное представление, какое имеет г. Михайловский. И если, тем не менее, их теории, хотя отчасти, и именно там, где они оказываются верными, являются новой иллюстрацией «гегельянства», то это обстоятельство лишь оттеняет поразительную силу мысли немецкого идеалиста: люди, никогда не читавшие его, силою фактов, очевидным смыслом «действительности», вынуждены говорить так, как говорил он. Большего торжества нельзя и придумать для философа: его игнорируют читатели, но его взгляды подтверждает жизнь.
До сих пор ещё трудно сказать, насколько взгляды немецких идеалистов непосредственно повлияли в указанном направлении на немецкое естествознание, хотя несомненно, что в первой половине нынешнего века даже натуралисты в Германии занимались в течение университетского курса философией, и хотя такие знатоки биологических наук, как Геккель, с уважением отзываются теперь об эволюционных теориях натурфилософов. Но философия природы была слабой стороной немецкого идеализма. Его сила заключалась в теориях, касавшихся различных сторон исторического развития. А что касается этих теорий, то пусть г. Михайловский припомнит, — если знал когда-нибудь, — что именно из школы Гегеля вышла вся та блестящая плеяда мыслителей и исследователей, которая придала совершенно новый вид изучению религии, эстетики, права, политической экономии, истории, философии и так далее. Во всех этих «дисциплинах» в течение некоторого — самого плодотворного —
периода не было ни одного выдающегося работника, не обязанного Гегелю своим развитием и свежими взглядами на свою науку. Думает ли г. Михайловский, что и против этого «можно спорить»? Если да, то пусть он попробует.
Говоря о Гегеле, г. Михайловский старается «сделать это так, чтобы быть понятным для людей, не посвящённых в тайны «философского колпака Егора Фёдоровича», как непочтительно выражался Белинский, подняв знамя восстания против Гегеля». Он берёт «для этого» два примера из книги Энгельса «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» («Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом». — Ред.). (Почему же не из самого Гегеля? Так удобнее было поступить писателю, «посвящённому в тайны» и т. д.)
«Зерно овса попадает в благоприятные условия: оно пускает росток и тем самым, как таковое, как зерно, отрицается; на его месте возникает стебель, который есть отрицание зерна; растение развивается, приносит плоды, т. е. новые зёрна овса, и когда эти зёрна созревают, — стебель погибает: он, отрицание зерна, сам отрицается. И затем тот же процесс «отрицания» и «отрицания отрицания» повторяется бесчисленное число (sic!) раз. В основании этого процесса лежит противоречие: зерно овса есть зерно и в то же время не зерно, так как всегда находится в действительном или возможном развитии».
Г. Михайловский, разумеется, «может спорить» против этого. Вот как переходит у него в действительность эта привлекательная возможность.
«Первая ступень, ступень зерна, есть тезис — положение; вторая, вплоть до образования новых зёрен, есть антитезис — противоположение; третья — есть синтезис или примирение (г. Михайловский решил писать популярно и потому не оставляет греческих слов без объяснения или перевода); всё вместе составляет триаду или трихотомию. И такова судьба всего живущего: оно возникает, развивается и даёт начало своему повторению, после чего умирает. Громадная масса единичных проявлений этого процесса тотчас же, конечно, встаёт в памяти читателя, и закон Гегеля оказывается оправданным
во всём органическом мире (мы теперь дальше не идём). Если, однако, мы вглядимся в наш пример несколько ближе, то увидим крайнюю поверхностность и произвольность нашего обобщения. Мы взяли зерно, стебель и опять зерно или, вернее, группу зёрен. Но ведь прежде, чем приносить плод, растение цветёт. Когда мы говорим об овсе или другом злаке, имеющем хозяйственное значение, мы можем иметь в виду зерно посеянное, солому и зерно собранное, но этими тремя моментами считать жизнь растения исчерпанною — не имеет никакого резона. В жизни растения момент цветения сопровождается чрезвычайным и своеобразным напряжением сил, а так как цветок не непосредственно из зерна возникает, то, придерживаясь даже терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление: стебель отрицает зерно, цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок. Пропуск момента цветения имеет важное значение ещё вот в каком отношении. Во времена Гегеля, может быть, и позволительно было брать зерно за исходный пункт жизни растения, а с хозяйственной точки зрения позволительно, пожалуй, это и теперь делать: хозяйственный год начинается посевом зерна. Но жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем, что зерно есть нечто очень сложное по строению и само составляет продукт развития клеточки, и что нужные для размножения клеточки образуются именно в момент цветения. Таким образом в примере жизни растения и исходный пункт взят произвольно и неверно, и весь процесс искусственно и опять-таки произвольно втиснут в рамки трихотомии» 1. Вывод: «пора бы перестать верить, что овёс растёт по Гегелю».
Всё течёт, всё изменяется! В наше время, т. е. когда пишущий эти строки занимался, в годы своего студенчества, естественными науками, овёс рос «по Гегелю», а ныне «мы очень хорошо знаем», что это вздор; теперь «nous avons change tout cela» (мы всё это изменили. — Ред.). Но полно, хорошо ли «мы знаем» то, о чём «мы» говорим?
1 «Русское Богатство», цит. книжка, II отд., стр. 154–157.
Г. Михайловский излагает заимствованный им у Энгельса пример с овсяным зерном совсем не так, как он изложен у самого Энгельса. Энгельс говорит: «зерно, как таковое, уничтожается, оно отрицается, его место занимает выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растёт, цветёт, оплодотворяется и производит, наконец, снова овсяные зёрна 1; когда зёрна созревают, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания мы получаем опять овсяное зерно, но уже не одно, а сам-десять, сам-двадцать, сам-тридцать» 2. Отрицанием зерна является у Энгельса целое растение, в круговорот жизни которого входит, между прочим, и цветение, и оплодотворение. Г. Михайловский «отрицает» растение, ставя на его место слово стебель. Стебель, как известно, составляет только часть растения и, разумеется, отрицается другими его частями: omnis determinatio est negatio (всякое определение есть отрицание. — Ред.). Но именно потому-то г. Михайловский и «отрицает» выражение Энгельса, заменяя его своим собственным: стебель отрицает зерно, — кричит он, — цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок; тут, по крайней мере, тетрахотомия! — Конечно, г. Михайловский, но всё это доказывает только то, что в споре с Энгельсом вы не отступаете даже… как бы это помягче сказать? — не отступаете даже перед «моментом»… видоизменения слов вашего противника. Это приём несколько… «субъективный».
Раз «момент» подмена совершил своё дело, ненавистная триада разлетается, как карточный домнк. Вы пропустили момент цветения, — упрекает российский «социолог» немецкого социалиста, — а «пропуск момента цветения имеет важное значение». Читатель видел, что «момент цветения» пропущен не Энгельсом, а г. Михайловским при изложении мысли Энгельса; он знает также, что такого рода «пропускам» в литературе придаётся
1 У Энгельса речь идёт, собственно говоря, о ячменном, а не об овсяном зерне; но это, конечно, несущественно.
2 «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» («Переворот в науке, произведённый г. Евгением Дюрингом». — Ред.), изд. I, ч. I, стр. 111–112.
важное, хотя и совершенно отрицательное значение. Г. Михайловский и тут пустил в дело некрасивый «момент». Но что же делать? «Триада» так ненавистна, победа так приятна, а «люди, совершенно не посвящённые в тайны» известного «колпака», так легковерны!
|
Мы все невинны от рожденья, Все нашей честью дорожим; Но ведь бывают столкновенья, Что просто нехотя грешим… |
Цветок есть орган растения и, как таковой, так же мало отрицает растение, как голова г. Михайловского отрицает г. Михайловского. Но «плод», т. е., точнее, оплодотворённое яйцо, есть действительно отрицание данного организма в качестве исходной точки развития новой жизни. Энгельс и рассматривает круговорот жизни растения от начала развития его из оплодотворённого яйца до воспроизведения им оплодотворённого яйца. Г. Михайловский с учёным видом знатока замечает: «жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем» и проч. — коротко сказать, мы знаем теперь, что яйцо оплодотворяется во время цветения. Энгельс, конечно, знает это не хуже г. Михайловского. Но что же это показывает? Если угодно г. Михайловскому, мы заменим зерно — оплодотворённым яйцом, но это не изменит смысла жизненного круговорота растения, не отвергнет «триады». Овёс всё-таки будет расти «по Гегелю».
Кстати. Допустим на минуту, что «момент цветения» ниспровергает все доводы гегельянцев. Как прикажет поступить г. Михайловский с бесцветковыми растениями? Неужели он оставит их во власти триады? Это напрасно, потому что триада будет иметь в таком случае огромное число подданных.
Но этот вопрос мы задаём собственно только, чтобы выяснить себе мысль г. Михайловского. Сами же мы остаёмся при том убеждении, что от триады не отобьёшься даже «цветком». Да и одни ли мы так думаем? Вот что говорит, например, специалист-ботаник Ф. Ван-Тигэм: «Какова бы ни была форма растения и к какой бы группе
оно ни принадлежало, благодаря этой форме, его тело происходит от другого тела, которое существовало раньше него и от которого оно отделилось. В свою очередь, оно отделяет от своей массы в известное время известные части, которые становятся точкой отправления, зародышами новых тел, и т. д. Словом, оно воспроизводится так же, как и родится: диссоциацией» 1. Извольте видеть! Почтенный учёный, член института, профессор в музее естественной истории, а рассуждает, как истый гегельянец: начинается, — говорит, — диссоциацией и опять приходит к ней. И ни слова о «моменте цветения»! Мы и сами понимаем, что очень огорчительно должно быть это для г. Михайловского; но делать нечего: истина, как известно, выше Платона.
Допустим ещё раз, что «момент цветения» ниспровергает триаду. Тогда, «придерживаясь терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление». «Терминология Гегеля» напоминает нам об его «Энциклопедии». Мы развёртываем первую её часть и оттуда узнаём, что есть много случаев, когда трихотомия переходит в тетрахотомию, и что вообще трихотомия господствует собственно лишь в области духа 2. Выходит, что овёс растёт «по Гегелю», как об этом уверяет Ван-Тигэм, а Гегель мыслит об овсе по г. Михайловскому, как за это ручается «Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse» («Энциклопедия философских наук в кратком очерке». — Ред.). Чудеса да и только! «Она к нему, а он ко мне, а я к буфетчику Петруше».
Другой пример, заимствованный у Энгельса г. Михайловским для вразумления «непосвящённых», касается учения Руссо.
«По Руссо, люди в естественном состоянии и дикости были равны равенством животных. Но человек отличается
1 «Traité de Botanique», par Ph. Van-Tieghem, 2-me édit., partie I, Paris 1891, p. 24 (Ф. Ван-Тигэм, Трактат о ботанике, изд. 2, ч. 1, Париж 1891, стр. 24. — Ред.).
2 «Enzyklopädie…», Teil I, § 230, Zusatz («Энциклопедия…», ч, I, § 230, Добавление. — Ред.).
способностью к совершенствованию, и это совершенствование началось возникновением неравенства, а затем каждый дальнейший шаг цивилизации был противоречив: «повидимому, это были шаги к усовершенствованию отдельного человека, в действительности же они вели к упадку человеческого рода… Металлургия и земледелие, вот два искусства, открытие которых произвело великую революцию. С точки зрения поэта — золото и серебро, а с точки зрения философа — железо и хлеб — цивилизовали людей и погубили человеческий род». Неравенство продолжает развиваться и, достигнув своего апогея, обращается в восточных деспотиях опять во всеобщее равенство всеобщего ничтожества, то есть возвращается к своей исходной точке, а затем дальнейший процесс таким же порядком приводит к равенству общественного договора».
Так г. Михайловский передаёт приведённый Энгельсом пример. Как это само собою ясно, он «может спорить» и тут.
«Можно бы кое-что заметить по поводу изложения Энгельса, но нам важно только знать, что именно в трактате Руссо («Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes») («Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми». — Ред.) ценится Энгельсом. Он не касается вопроса о том, верно или неверно понимает Руссо ход истории, он интересуется только тем, что Руссо «мыслит диалектически»: усматривает противоречие в самом содержании прогресса и располагает своё изложение так, что его можно подогнать под гегельянскую формулу отрицания и отрицания отрицания. И действительно можно, хотя Руссо и не знал гегельянской диалектической формулы».
Это только первое, аванпостное нападение на «гегельянство» в лице Энгельса. Далее идёт атака sur toutе la ligne (по всей линии. — Ред.).
«Руссо, не зная Гегеля, мыслил по Гегелю диалектически. Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому, что все люди, по самой природе своей, мыслят диалектически. Однако выбран именно Руссо, человек, выделявшийся из среды современников
не только по своим дарованиям, — в этом отношении ему не уступят многие, — а по самому складу своего ума и характеру миросозерцания. Столь исключительное явление не следовало, казалось бы, брать для проверки на нём всеобщего правила. Но у нас своя рука владыка. Руссо интересен и важен прежде всего потому, что он первый с достаточной резкостью показал противоречивость цивилизации, а противоречие составляет непременное условие диалектического процесса. Надо, однако, заметить, что противоречие, усмотренное Руссо, не имеет ничего общего с противоречием в гегельянском смысле слова. Гегелевское противоречие состоит в том, что каждая вещь, находясь в постоянном процессе движения, изменения (и именно последовательно тройственным путём), есть в каждую данную единицу времени «она» и вместе с тем «не она». Если оставить в стороне обязательные три стадии развития, то противоречие является здесь просто как бы подкладкою изменений, движения, развития. Руссо также говорит о процессе изменений. Но отнюдь не в самом факте изменений усматривает он противоречие. Значительная часть его рассуждений как в «Discours de l'inégalité» («Рассуждение о неравенстве». — Ред.), так и в других сочинениях, может быть резюмирована так: умственный прогресс сопровождался нравственным регрессом. Очевидно, диалектическое мышление тут решительно не при чём: тут нет «отрицания отрицания», а есть только указание на единовременное существование добра и зла в данной группе явлений, и всё сходство с диалектическим процессом держится на слове «противоречие». Это, однако, только одна сторона дела. Энгельс видит, кроме того, в рассуждении Руссо явственную трихотомию: за первобытным равенством следует его отрицание — неравенство, затем наступает отрицание отрицания — равенство всех в восточных деспотиях перед властью хана, султана, шаха. «Эта последняя степень неравенства и есть крайняя точка, завершающая круг и возвращающая нас к нашей исходной точке». Но история на этом не останавливается, развивает новые неравенства и т. д. Приведённые в кавычках слова суть подлинные слова Руссо, и они-то особенно дороги для
Энгельса, как очевидное свидетельство, что Руссо мыслят по Гегелю» 1.
Руссо «резко выделялся из среды современников». Это справедливо. Чем выделялся? Тем, что мыслил диалектически, между тем как его современники были почти сплошь метафизиками. Его взгляд на происхождение неравенства есть именно диалектический взгляд, хотя г. Михайловский и отрицает это.
По словам г. Михайловского, Руссо лишь указал на то, что умственный прогресс сопровождался в истории цивилизации нравственным регрессом. Нет, Руссо указал не только на это. У него умственный прогресс являлся причиной нравственного регресса. В этом можно было бы убедиться, даже не читавши сочинений Руссо: достаточно было бы припомнить, на основании предыдущей выписки, какую роль играла у него обработка металлов и земледелие, совершившие великую революцию, разрушившие первобытное равенство. Но кто читал самого Руссо, тот не забыл, конечно, следующего места из его «Discours sur l'origine de l'inégalité» («Рассуждение о неравенстве». — Ред.): «Il me reste à considérer et à rapprocher les différents hasards qui ont pu perfectionner la raison humaine en détériorant l'espèce, rendre un être méchant en le rendant sociable…» («Мне остаётся сделать оценку и сближение тех различных случаев, которые могли усовершенствовать человеческий разум, внося порчу в человеческий род, сделать данное животное злым, делая его общественным…»)
Это место особенно замечательно тем, что оно прекрасно освещает взгляд Руссо на способность человеческого рода к прогрессу. Об этой особенности немало говорили и его «современники». Но у них она являлась таинственной силой, которая сама из себя творит успехи разума. По Руссо, эта способность «никогда не могла развиваться сама собою». Для своего развития она нуждалась в постоянных толчках со стороны. Это одна из важнейших особенностей диалектического взгляда на умственный
1 Все эти выписки взяты из цитированной уже книжки «Русского Богатства».
прогресс сравнительно со взглядом метафизическим. Нам придётся ещё говорить о ней впоследствии. Теперь для нас важно то, что приведённое место, как нельзя более ясно, выражает мнение Руссо насчёт причинной связи нравственного регресса с умственным прогрессом 1. А это очень важно для выяснения взгляда этого писателя на ход цивилизации. У г. Михайловского выходит так, что Руссо просто указал «противоречие» да, может быть, пролил по его поводу несколько благородных слез. На самом деле, Руссо считал это противоречие основной пружиной исторического развития цивилизации. Основателем гражданского общества и, следовательно, могильщиком первобытного равенства был человек, оградивший участок земли и сказавший: «он принадлежит мне», иначе сказать, основанием гражданского общества служит собственность, которая вызывает столько споров между людьми, вызывает в них столько жадности, так портит их нравственность. Но возникновение собственности предполагало известное развитие «техники и знаний» (de l'industrie et des lumières). Таким образом, первобытные отношения погибли именно благодаря этому развитию; но в то время, когда это развитие привело к торжеству частной собственности, первобытные отношения людей, с своей стороны, находились уже в таком состоянии, что их дальнейшее существование стало невозможно 2. Если судить о Руссо по тому, как изображает указанное им «противоречие» г. Михайловский, можно подумать, что знаменитый женевец был не более как плаксивым «субъективным социологом», который в лучшем случае способен был придумать высоконравственную «формулу прогресса» для уврачевания ею человеческих бедствий. На самом деле Руссо более всего ненавидел
1 Для сомневающихся есть ещё одна выписка: «J'ai assigné ce premier degré de la décadence des mœurs au premier moment de la culture des lettres dans tous les pays du monde». Lettre à M. l'abbé Raynal., Œuvres de Rousseau, Paris 1820, v. IV, p. 43 («Я приписал эту первую ступень падения нравов первому моменту развития науки во всех странах мира». Письмо к г. аббату Рейналю, Сочинения Руссо, Париж 1820, т. IV, стр 43. — Ред.).
2 См. начало второй части «Discours sur inégalité» («Рассуждение о неравенстве». — Ред.).
именно такого рода «формулы» и побивал их всякий раз, когда к этому представлялся случай.
Гражданское общество возникло на развалинах первобытных отношений, оказавшихся неспособными к дальнейшему существованию. Эти отношения заключали в себе зародыш своего собственного отрицания. Доказывая это положение, Руссо как бы заранее иллюстрировал мысль Гегеля: всякое явление само себя уничтожает, превращается в свою противоположность. Рассуждение Руссо о деспотизме может считаться новой иллюстрацией этой мысли.
Судите же сами, как много понимания Гегеля и Руссо обнаруживает г. Михайловский, говоря: «очевидно, диалектическое мышление тут решительно не при чём», и наивно предполагая, что Энгельс произвольно зачислил Руссо по диалектическому ведомству лишь на том основании, что тот употребил выражения: «противоречие», «круг», «возвращение к исходной точке» и т. д.
Но почему же Энгельс сослался на Руссо, а не на кого другого? «Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому что ведь все люди, по самой природе своей, мыслят диалектически»…
Ошибаетесь, г. Михайловский, — далеко не все: вас первого Энгельс никогда не принял бы за диалектика. Ему достаточно было бы прочесть вашу статью «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского», чтобы бесповоротно отнести вас к числу неисправимых метафизиков.
О диалектическом мышлении Энгельс говорит: «Люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, подобно тому, как они говорили прозой гораздо раньше появления слова проза. Закон отрицания, который и в природе, и в истории, а также, пока он остаётся непознанным, и в наших головах осуществляется бессознательно, был Гегелем только впервые резко формулирован» 1. Как видит читатель, здесь речь идёт о бессознательном диалектическом мышлении, от которого ещё очень далеко до сознательного. Когда мы
1 «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung etc.», 2. Aufl., p. 134 («Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом», изд. 2, стр. 134. — Ред.).
говорим: «крайности сходятся», мы, сами того не замечая, высказываем диалектический взгляд на вещи; когда мы движемся, мы, опять-таки не подозревая этого, занимаемся прикладной диалектикой (мы уже сказали выше, что движение есть осуществлённое противоречие). Но ни движение, ни диалектические афоризмы ещё не спасают нас от метафизики в области систематической мысли. Напротив. История мысли показывает, что в течение долгого времени метафизика всё более и более усиливалась, — и необходимо должна была усиливаться, — на счёт первобытной наивной диалектики: «Разложение природы на отдельные её части, распределение различных явлений и предметов природы по определённым классам, исследование внутренних свойств органических тел, в связи с разнообразием их органического строения, — всё это было основой тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось естествознание в последние четыре столетия. Но вместе с тем эта же причина наделила нас привычкой брать явления и предметы природы в их обособленности, вне их великой совокупной связи, и притом не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменяющиеся, а как вечно неизменные, не как живые, а как мёртвые. И этот-то способ исследования, перенесённый Бэконом и Локком из естествознания в философию, причинил характеристическую односторонность последних столетий — метафизическое мышление».
Так говорит Энгельс, от которого мы узнаём также, что «хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (Декарт и Спиноза), но, особенно под влиянием английской философии, она всё более и более склонялась к… метафизическому способу мышления, почти исключительно овладевшему также и французами XVIII века, по крайней мере в их специально философских трудах. Вне этой области они смогли, однако, оставить нам высокие образцы диалектики: припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми»» 1.
1 «Hernn Eugen Dühring's Umwälzung etc.», 2. Auf)., p. 4–6 («Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом», изд. 2, стр. 4–6. — Ред.).
Кажется, ясно, почему Энгельс говорит о Руссо, а не о Вольтере и не о первом встречном. Мы не смеем думать, что г. Михайловский не прочёл той самой книги Энгельса, которую он цитирует, из которой берёт разбираемые им «примеры». И если г. Михайловский пристаёт к Энгельсу «с первым встречным», то остаётся предположить одно: наш автор и здесь пускает в ход уже знакомый нам «момент» подмена, «момент»… целесообразного искажения слов своего противника. Эксплуатация подобного «момента» могла показаться ему тем более удобной, что книга Энгельса не переведена на русский язык и не существует для читателей, не знающих по-немецки. Тут у нас «своя рука владыка». Тут новое искушение, и опять «мы нехотя грешим».
|
О, неужели, боги, вас веселит, Коль наша честь кувырком-кувырком полетит. 1 |
Но отдохнём от г. Михайловского. Вернёмся к немецким идеалистам an und für sich.
Мы сказали, что философия природы была слабою стороною этих мыслителей, главных заслуг которых надо искать в различных областях философии и истории. Теперь мы прибавим, что иначе и быть не могло в то время. Философия, называвшая себя наукой наук, всегда имела в себе много «светского содержания», т. е. всегда занималась многими собственно научными вопросами. Но в различные времена «светское содержание» её было различно. Так, — чтобы ограничиться здесь примерами из истории новой философии, — в XVII веке философы преимущественно занимались вопросами математики и естественных наук. Философия XVIII века воспользовалась для своих целей естественно-научными открытиями и теориями предыдущей эпохи, но сама она занималась естественными науками разве в лице Канта; во Франции на первый план выступили тогда общественные вопросы, Те же вопросы продолжали главным образом занимать собою, хотя и с другой стороны, и философов XIX столетия.
1 Пусть не винит наш читатель за цитаты из «Прекрасной Елены». Мы недавно перечитали статью г. Михайловского «Дарвинизм и оперетки Оффенбаха» и находимся под сильным её впечатлением.
Шеллинг, например, прямо говорил, что он считает решение одного исторического вопроса важнейшей задачей трансцендентальной философии. Каков был этот вопрос, мы скоро увидим.
Если всё течёт, всё изменяется; если всякое явление само себя отрицает; если нет такого полезного учреждения, которое не стало бы, наконец, вредным, превратившись таким образом в свою собственную противоположность, то выходит, что нелепо искать «совершенного законодательства», что нельзя придумать такое общественное устройство, которое было бы лучшим для всех веков и народов: всё хорошо на своём месте и в своё время. Диалектическое мышление исключало всякие утопии.
Оно тем более должно было исключать их, что «человеческая природа», этот будто бы постоянный критерий, которым, как мы видели, неизменно пользовались и просветители XVIII века, и социалисты-утописты первой половины XIX столетия, испытала общую судьбу всех явлений; она сама была признана изменчивой.
Вместе с этим исчез и тот наивно-идеалистический взгляд на историю, которого также одинаково держались и просветители, и утописты и который выражается в словах: разум, мнения правят миром. Конечно, разум, говорил Гегель, правит историей, но в том же смысле, в каком он правит движением небесных светил, т. е. в смысле законосообразности. Движение светил законосообразно, но они не имеют, разумеется, никакого представлении об этой законосообразности. То же и с историческим движением человечества. В нём, без всякого сомнения, есть свои законы; но это не значит, что люди сознают их и что, таким образом, человеческий разум, наши знания, наша «философия» являются главными факторами исторического движения. Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил своё время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль:
сова Минервы опять вылетит только ночью. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны: они даже совершенно необходимы. Но они ровно ничего не объясняют; они сами нуждаются в объяснении и, наверное, подлежат ему, потому что в них есть своя законосообразность.
Признание законосообразности в полёте совы Минервы легло в основание совершенно нового взгляда на историю умственного развития человечества. Метафизики всех времён, всех народов и всех направлений, раз усвоив известную философскую систему, считали её истинной, а все другие системы безусловно ложными. Они знали только отвлечённую противоположность между отвлечёнными представлениями: истина, заблуждение. Поэтому история мысли была для них лишь хаотическим сплетением частью грустных, частью смешных ошибок, дикая пляска которых продолжалась вплоть до того блаженного времени, когда придумана была, наконец, истинная философская система. Так смотрел на историю своей науки ещё Ж.-Б. Сэй, этот метафизик из метафизиков. Он не советовал изучать её, потому что в ней нет ничего, кроме заблуждений. Идеалисты-диалектики смотрели на дело иначе. Философия есть умственное выражение своего времени, — говорили они; — каждая философия истинна для своего времени и ошибочна для другого.
Но если разум правит миром только в смысле законосообразности явлений; если не идеи, не знание, не «просвещение» руководят людьми в их, так сказать, общественном домостроительстве и в историческом движении, то где же человеческая свобода? Где та область, в которой человек «судит и выбирает», не теша себя, как ребёнок, праздной забавой, не служа игрушкой в руках посторонней ему, хотя, может быть, и не слепой силы?
Старый, но вечно новый вопрос о свободе и необходимости возникал перед идеалистами XIX века, как возникал он перед метафизиками предшествовавшего столетия, как возникал он решительно перед всеми философами, задававшимися вопросами об отношении бытия к мышлению. Он, как сфинкс, говорил каждому из таких мыслителей: разгадай меня. или я пожру твою систему!
Вопрос о свободе и необходимости и был тот вопрос, решение которого в применении к истории Шеллинг считал величайшей задачей трансцендентальной философии. Решила ли его, как решила его эта философия?
И заметьте: для Шеллинга, как и для Гегеля, вопрос этот представлял трудности в применении именно к истории… С точки зрения чисто антропологической он уже мог считаться решённым.
Тут необходимо пояснение, и мы дадим его, прося читателя отнестись к нему внимательно ввиду огромной важности предмета.
Магнитная стрелка обращается к северу. Это происходит от действия особой материи, которая сама подчиняется известным законам: законам материального мира. Но для стрелки незаметны движения этой материи; она не имеет о них ни малейшего представления. Ей кажется, что она обращается к северу совершенно независимо от какой-либо посторонней причины, просто потому, что ей приятно туда обращаться. Материальная необходимость представляется ей в виде её собственной свободной духовной деятельности.
Этим примером Лейбниц хотел пояснить свой взгляд на свободу воли. Подобным же примером поясняет свой совершенно тождественный взгляд Спиноза.
Некоторая внешняя причина сообщила камню известное количество движения. Движение продолжается, конечно, в течение известного времени и после того, как причина перестала действовать. Это продолжение его необходимо по законам материального мира. Но вообразите, что камень мыслит, что он сознаёт своё движение, доставляющее ему удовольствие, но не знает его причины, не знает даже, что вообще есть для него какая бы то ни было внешняя причина. Как представится в таком случае камню его собственное движение? Непременно, как результат его собственного желания, его собственного свободного выбора; он скажет себе; я движусь, потому что хочу двигаться. «Такова и та человеческая свобода, которою так гордятся все люди. Сущность её сводится к тому, что люди сознают свои стремления, но не знают внешних причин, вызывающих эти стремления. Так, дитя
воображает, что оно свободно желает того молока, которое составляет его пищу…»
Многим даже из нынешних читателей такое объяснение покажется «грубо-материалистическим», и они удивятся, как мог давать его Лейбниц, идеалист чистой воды. Они скажут к тому же, что и вообще сравнение не доказательство, и что ещё менее доказательно фантастическое сравнение человека с магнитной стрелкой или с камнем. На это мы заметим, что сравнение перестанет быть фантастическим, как только мы припомним явления, каждодневно совершающиеся в человеческой голове. Уже материалисты XVIII века указывали на то обстоятельство, что каждому волевому движению в мозгу соответствует известное движение мозговых фибр. То, что по отношению к магнитной стрелке или к камню является фантазией, становится бесспорным фактом по отношению к мозгу: совершающееся по роковым законам необходимости движение материи действительно сопровождается в нём тем, что называется свободной деятельностью мысли. А что касается довольно естественного на первый взгляд удивления по поводу материалистического рассуждения идеалиста Лейбница, то нужно помнить, что, как мы уже говорили, все последовательные идеалисты были монистами, т. е. что в их миросозерцании совсем не было места для той непереходимой пропасти, которая отделяет материю от духа согласно воззрениям дуалистов. По мнению дуалиста, данный агрегат материи может оказаться способным к мышлению только в том случае, если в него вселится частица духа: материя и дух в глазах дуалиста — две совершенно самостоятельные субстанции, не имеющие ничего общего между собою. Сравнение Лейбница покажется ему диким по той простой причине, что магнитная стрелка никакой души не имеет. Но представьте себе, что вы имеете дело с человеком, который рассуждает так: стрелка — действительно нечто совершенно материальное. Но что такое сама материя? Я думаю, что она обязана своим существованием духу, и не в том смысле, что она создана духом, а в том, что она сама есть тот же дух, но только существующий в другом виде. Этот вид не соответствует
его истинной природе, он даже прямо противоположен ей, но это не мешает ему быть видом существования духа, потому что, по самой природе своей, дух должен превращаться в свою собственную противоположность. — Вас может удивить и это рассуждение, но вы во всяком случае согласитесь, что человек, признающий его убедительным, человек, видящий в материи лишь «инобытие духа», не смутится теми объяснениями, которые материи приписывают функции духа или функции этого последнего ставят в тесную зависимость от законов материи. Такой человек может принять материалистическое объяснение психических явлений и в то же время придать ему (с натяжками или без натяжек, — это другой вопрос) строго идеалистический смысл. Так и поступали немецкие идеалисты.
Психическая деятельность человека подчинена законам материальной необходимости. Но это нимало не уничтожает человеческой свободы. Законы материальной необходимости сами суть не что иное, как законы деятельности духа. Свобода предполагает необходимость, необходимость целиком переходит в свободу, и потому свобода человека в действительности несравненно шире, чем полагают дуалисты, которые, стремясь ограничить свободную деятельность от необходимой, тем самым отрывают от царства свободы всю ту — даже, по их мнению, очень широкую, — область, которую они отводят необходимости.
Так рассуждали идеалисты-диалектики. Как видит читатель, они крепко держались за «магнитную стрелку» Лейбница; только стрелка эта совершенно преображалась, так сказать, одухотворялась в их руках.
Но преображение стрелки ещё не разрешало всех затруднений, связанных с вопросом об отношении свободы к необходимости. Положим, что отдельный человек совершенно свободен, несмотря на своё подчинение законам необходимости, более того — именно вследствие этого подчинения. Но в обществе, а следовательно и в истории, мы имеем дело не с индивидуумом, а с целой массой индивидуумов. Спрашивается, не нарушается ли свобода каждого свободою остальных? Я вознамерился
сделать то и то, например, осуществить истину и справедливость в общественных отношениях. Это моё намерение свободно принято мною, и не менее свободны будут те мои действия, с помощью которых я буду стараться осуществить его. Но мои ближние мешают мне в преследовании моей цели. Они восстали против моего намерения так же свободно, как я его принял. И так же свободны их, направленные против меня, действия. Как я преодолею создаваемые ими препятствия? Разумеется, я буду спорить с ними, убеждать, может быть, даже упрашивать или стращать их. Но как знать, приведёт ли это к чему-нибудь? Французские просветители говорили; «la raison finira par avoir raison» («разум в конечном счёте всегда окажется прав». — Ред.). Но ведь для того, чтобы мой разум восторжествовал, мне нужно, чтобы мои ближние признали его также и своим разумом. А какие у меня основания надеяться на это? Поскольку их деятельность свободна, — а она совершенно свободна, — поскольку, неведомыми мне путями, материальная необходимость перешла в свободу, — а она, по предположению, целиком перешла в неё, — постольку поступки моих сограждан ускользают от всякого предвидения. Я мог бы надеяться предвидеть их только при том условии, если бы я мог рассматривать их так, как я рассматриваю все другие явления окружающего меня мира, т. е. как необходимые следствия определённых причин, которые уже известны или могут быть известны мне. Иначе сказать, моя свобода не была бы пустым словом только в том случае, если бы её сознание могло сопровождаться пониманием причин, вызывающих свободные поступки моих ближних, т. е. если бы я мог рассматривать их со стороны их необходимости. Совершенно то же могут сказать мои ближние о моих поступках. А это что означает? Это означает, что возможность свободной (сознательной) исторической деятельности всякого данного лица сводится к нулю в том случае, если в основе свободных человеческих поступков не лежит доступная пониманию деятеля необходимость.
Мы видели, что метафизический французский материализм приводил собственно к фатализму. В самом деле,
если судьба целого народа зависит от одного шального атома, то нам остаётся только скрестить на груди руки, потому что мы решительно не в состоянии и никогда не будем в состоянии ни предвидеть такие проделки отдельных атомов, ни предупреждать их.
Теперь мы видим, что идеализм может привести к такому же фатализму. Если в поступках моих сограждан нет ничего необходимого или если они недоступны моему пониманию со стороны их необходимости, то мне остаётся уповать на благое провидение: самые разумные мои планы, самые благородные мои желания разобьются о совершенно непредвиденные действия миллионов других людей. Тогда, по выражению Лукреция, изо всего может выйти всё.
И интересно, что чем более идеализм стал бы оттенять сторону свободы в теории, тем более он вынужден был бы сводить её на нет в области практической деятельности, где он не в силах был бы совладать со случайностью, вооружённой всей силою свободы.
Это прекрасно понимали идеалисты-диалектики. В их практической философии необходимость является вернейшим, единственным надёжным залогом свободы. Даже нравственный долг не может успокоить меня относительно результатов моих действий, — говорил Шеллинг, — если результаты эти зависят только от свободы. «В свободе должна быть необходимость».
Но о какой же собственно необходимости может идти речь в этом случае? Едва ли много утешения принесёт мне постоянное повторение той мысли, что известные волевые движения необходимо соответствуют известным движениям мозгового вещества. На таком отвлечённом положении нельзя построить никаких практических расчётов, а дальше мне нет и хода с этой стороны, потому что голова моего ближнего — не стеклянный улей, а его мозговые фибры — не пчёлы, и я не мог бы наблюдать их движения даже в том случае, если бы я твёрдо знал, — а мы всё ещё далеки от этого, — что вот вслед за таким-то движением такого-то нервного волокна последует такое-то намерение в душе моего согражданина. Надо, стало быть,
подойти к изучению необходимости человеческих действий с другой стороны.
Тем более надо, что сова Минервы вылетает, как мы знаем, только вечером, т. е. что общественные отношения людей не представляют собой плода их сознательной деятельности. Люди сознательно преследуют свои частные, личные цели. Каждый из них сознательно стремится, положим, к округлению своего состояния, а из совокупности их отдельных действий выходят известные общественные результаты, которых они, может быть, совсем не желали и, наверное, не предвидели. Зажиточные римские граждане скупали земли бедных земледельцев. Каждый из них знал, конечно, что, благодаря его действиям, такие-то Туллий и Юлий становятся безземельными пролетариями. Но кто из них предвидел, что латифундии погубят республику, а с нею и Италию? Кто из них давал, кто мог дать себе отчёт относительно исторических последствий своего приобретательства? Никто не мог; никто не давал. А между тем последствия были: благодаря латифундиям погибла и республика, и Италия.
Из сознательных свободных поступков отдельных людей необходимо вытекают неожиданные для них, непредвиденные ими последствия, касающиеся всего общества, т. е. влияющие на совокупность взаимных отношений тех же людей. Из области свободы мы переходим таким образом в область необходимости.
Если несознаваемые людьми общественные последствия их индивидуальных действий ведут к изменению общественного строя, — что происходит всегда, хотя далеко не одинаково быстро, — то перед людьми вырастают новые индивидуальные цели. Их свободная сознательная деятельность необходимо приобретает новый вид. Из области необходимости мы опять переходим в область свободы.
Всякий необходимый процесс есть процесс законосообразный. Изменения общественных отношений, непредвидимые людьми, но необходимо являющиеся в результате их действий, очевидно, совершаются по определённым законам. Теоретическая философия должна открыть их.
Изменения, вносимые в жизненные цели, в свободную деятельность людей изменившимися общественными отношениями, — очевидно то же. Другими словами: переход необходимости в свободу тоже совершается по определённым законам, которые могут и должны быть открыты теоретической философией.
А раз теоретическая философия исполнит эту задачу, она даст совершенно новую, непоколебимую основу философии практической. Раз мне известны законы общественно-исторического движения, я могу влиять на него, сообразно моим целям, не смущаясь ни проделками шальных атомов, ни тем соображением, что мои соотечественники, в качестве существ, одарённых свободной волей, готовят мне каждую данную минуту целые вороха самых удивительных сюрпризов. Я, разумеется, не в состоянии буду поручиться за каждого отдельного соотечественника, особенно если он принадлежит к «интеллигентному классу», но в общих чертах мне будет известно направление общественных сил, и мне останется только опереться на их равнодействующую для достижения моих целей.
Итак, если я могу прийти, например, к тому отрадному убеждению, что в России, не в пример прочим странам, восторжествуют «устои», то лишь постольку, поскольку мне удастся понять действия доблестных «россов» как действия законосообразные, рассмотреть их с точки зрения необходимости, а не с точки зрения свободы. «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — говорит Гегель, — прогресс, который мы должны понять в его необходимости».
Далее. Как бы хорошо мы ни изучили «природу человека», мы всё-таки будем далеки от понимания тех общественных результатов, которые вытекают из действий отдельных людей. Положим, что мы признали вместе с экономистами старой школы, что стремление к наживе есть главный отличительный признак человеческой природы. Будем ли мы в состоянии предвидеть те формы, которые примет это стремление? При данных, определённых, известных нам общественных отношениях, — да; но эти данные, определённые, известные нам общественные
отношения сами будут изменяться под напором «человеческой природы», под влиянием приобретательской деятельности граждан. В какую сторону изменятся они? Это нам будет так же мало известно, как и то новое направление, которое примет стремление к наживе при новых, изменившихся общественных отношениях. Совершенно в таком же положении очутимся мы, если, вместе с немецкими катедер-социалистами, станем твердить, что природа человека не исчерпывается одним стремлением к наживе, что у него есть также и «общественное чувство» (Gemeinsinn). Это будет новая погудка на старый лад. Чтобы выйти из неизвестности, прикрываемой более или менее учёной терминологией, нам от изучения природы человека надо перейти к изучению природы общественных отношений, нам надо понять эти отношения как законосообразный, необходимый процесс. А это возвращает нас к вопросу: от чего зависит, чем определяется природа общественных отношений?
Мы видели, что ни материалисты прошлого века, ни социалисты-утописты не дали удовлетворительного ответа на этот вопрос. Удалось ли разрешить его идеалистам-диалектикам?
Нет, не удалось и им, и не удалось именно потому, что они были идеалистами. Чтобы выяснить себе их взгляд, припомним вышеупомянутый спор о том, что от чего зависит — конституция от нравов, или нравы от конституции. Гегель справедливо замечал по поводу этого спора, что вопрос в нём поставлен совершенно неправильно, так как в действительности хотя нравы данного народа несомненно влияют на его конституцию, а конституция на нравы данного народа, но и те, и другие представляют собою результат чего-то «третьего», некоторой особой силы, которая создаёт и нравы, влияющие на конституцию, и конституцию, влияющую на нравы. Но какова, по Гегелю, эта особая сила, эта последняя основа, на которой держится и природа людей и природа общественных отношений? Эта сила есть «понятие» или, — что то же, — «идея», осуществлением которой является вся история данного народа. Каждый народ осуществляет свою особую идею, а каждая особая идея, идея каждого отдельного
народа, представляет собою ступень в развитии абсолютной идеи. История оказывается, таким образом, как бы прикладною логикой: объяснить известную историческую эпоху значит показать, какой стадии логического развития абсолютной идеи она соответствует. Но что же такое эта «абсолютная идея»? Не что иное, как олицетворение нашего собственного логического процесса. Вот что говорит о ней человек, сам основательно прошедший школу идеализма, сам страстно увлекавшийся им, но уж рано заметивший, в чём заключается коренной недостаток этого философского направления: «Когда я, на основании знакомства с действительными яблоками, грушами, земляникой, миндалём, вырабатываю в себе представление: плод; когда я затем иду дальше и воображаю, что моё… отвлечённое представление: «плод» существует вне меня и даже составляет истинную сущность груш, яблок и т. д., то я, — выражаясь языком умозрительной философии, — объявляю «плод» «субстанцией» груш, яблок, миндаля и т. д. Я говорю: для груши несущественно то обстоятельство, что она является в виде груши, для яблока несущественно быть яблоком. Существенно в них… мною от них же отвлечённое представление: «плод». И я объявляю яблоки, груши, миндаль и т. д. простыми видами существования — modi «плода». Мой конечный, опирающийся на внешние чувства, рассудок отличает, конечно, яблоко от груши, а грушу от миндаля, но мой спекулятивный разум объявляет эти различия неважными, несущественными, он видит в яблоке то же, что и в груше, в груше то же, что и в миндале: «плод». Различные действительные плоды рассматриваются им лишь как плоды-призраки, истинной сущностью, «субстанцией» которых является «плод».
«Ясно, что, идя по этому пути, не наживёшь большого богатства знаний. Минералог, который умел бы только повторять, что все минералы, в сущности, представляют собою минерал, был бы минералогом только в своём собственном воображении… Поэтому умозрительная философия, — делающая из различных действительных плодов единый отвлечённый «плод», — чтобы притти к какому-нибудь положительному содержанию, должна пытаться
тем или другим способом снова перейти от «плода», от «субстанции» к различным действительным грешным плодам: к яблоку, к груше, к миндалю и т. д. Но заставить отвлечённое представление «плод» породить действительные плоды так же трудно, как легко создать это представление на основании знакомства с действительными плодами. Не покинув абстракции, нельзя прийти к тому, что составляет её прямую противоположность. Поэтому умозрительный философ и покидает её, но покидает на особый умозрительный, мистический лад… Он только по-видимому возвышается над абстракцией. Он рассуждает так: «Если яблоко, груша, миндаль, земляника на самом деле суть не что иное как «субстанция», «плод», то спрашивается, почему же плод является мне то яблоком, то грушей, то миндалём; откуда берётся этот призрак разнообразия, который сильно противоречит моему умозрительному представлению единства, «субстанции», «плода»?
«Это происходит от того, — отвечает умозрительный философ, — что «плод» есть не мёртвая, безразличная, неподвижная, а живая, сама из себя развивающаяся, подвижная сущность. Разнообразие действительных грешных плодов имеет значение не только для моего конечного рассудка, но и для самого «плода», для умозрительного разума. Различные грешные плоды представляют собою различные проявления жизни единого плода… в яблоке «плод» даёт себе яблоковидное, в груше — грушевидное бытие… Он полагает себя в виде яблока, груши, миндаля; различия, существующие между этими плодами, суть лишь саморазличение «плода», и именно потому различные плоды являются различными членами процесса жизни «плода»…
Все это очень едко, но вместе с тем безусловно справедливо. Олицетворяя наш собственный мыслительный процесс в виде абсолютной идеи и ища в этой идее разгадки всех явлений, идеализм тем самым заводил себя в тупой переулок, из которого выбраться можно было, только покинув «идею», т. е. распростившись с идеализмом. Вот, например, объясняют ли вам сколько-нибудь природу магнетизма следующие слова Шеллинга:
«Магнетизм есть общий акт одушевления, внедрения единства во множество, понятия в различие. То самое вторжение субъективного в объективное, которое в идеальном… есть самосознание, является здесь выраженным в бытии». Не правда ли, эти слова ровно ничего не объясняют? Так же мало удовлетворительны подобные объяснения и в области истории. Отчего пала Греция? Оттого, что та идея, которая составляла принцип греческой жизни, центр греческого духа (идея прекрасного), могла быть лишь очень непродолжительной фазой в развитии всемирного духа. Подобные ответы только повторяют вопрос в положительной и притом напыщенной, ходульной форме. Гегель, — которому принадлежит только что приведённое объяснение падения Греции, — как будто и сам чувствует это и спешит дополнить своё идеалистическое объяснение ссылкой на экономическую действительность древней Греции: «Лакедемон пал главным образом вследствие неравенства имуществ», — говорит он. И так поступает он не только там, где дело касается Греции. Это, можно сказать, его неизменный приём в философии истории: сначала несколько туманных ссылок на свойства абсолютной идеи, а затем — гораздо более пространные и, конечно, гораздо более убедительные указания на характер и развитие имущественных отношений у того народа, о котором идёт речь. Собственно в объяснениях этого последнего рода нет уже ровно ничего идеалистического, и, прибегая к ним, Гегель, — говоривший, что «идеализм оказывается истиной материализма», — подписывал свидетельство о бедности именно идеализму, как бы молчаливо признавая, что в сущности дело обстоит совсем наоборот, что материализм оказывается истиной идеализма.
Впрочем, материализм, к которому подходил здесь Гегель, был совершенно неразвитый, зачаточный материализм, немедленно снова переходивший в идеализм, как только оказывалось нужным объяснить, откуда же берутся те или другие имущественные отношения. Правда, и тут Гегелю случалось нередко высказывать совершенно материалистические взгляды. Но, говоря вообще, имущественные отношения рассматриваются им как осуществление
правовых понятий, которые развиваются своей собственной внутренней силой.
Итак, что же мы узнали об идеалистах-диалектиках?
Они покинули точку зрения человеческой природы и благодаря этому отделались от утопического взгляда на общественные явления, стали рассматривать общественную жизнь как необходимый процесс, имеющий свои собственные законы. Но окольным путём олицетворения процесса нашего логического мышления (т. е. одной из сторон человеческой природы) они вернулись к той же неудовлетворительной точке зрения, и потому им осталась непонятной истинная природа общественных отношений.
Теперь опять маленькое отступление в область нашего домашнего, российского любомудрия.
Г. Михайловский слышал от г. Филиппова, который, в свою очередь, слышал от американца Фрэзера, что вся философия Гегеля сводится к «гальваническому мистицизму». Уже из того, что мы сказали о задачах, которые ставила себе идеалистическая немецкая философия, читатель видит, как вздорно мнение Фрэзера. Гг. Филиппов и Михайловский сами чувствуют, что их американец «хватил через край»: «Достаточно вспомнить преемственный ход и влияние (на Гегеля) предыдущей метафизики, начиная с древних, с Гераклита…» — говорит г. Михайловский, тут же прибавляя, однако: «Тем не менее, указания Фрэзера в высшей степени интересны и, несомненно, заключают в себе известную долю истины». Надо сознаться, хотя нельзя не признаться… Щедрин давно уже осмеял эту «формулу». Но что прикажете делать его бывшему сотруднику, г. Михайловскому, который взялся истолковать «непосвященным» философа, известного ему только по наслышке? Поневоле будешь повторять с учёным видом знатока ничего не говорящие фразы…
Вспомним, однако, «преемственный ход» развития немецкого идеализма. «Опыты гальванизма производят впечатление на всех мыслящих людей Европы, в том числе и на молодого тогда немецкого философа Гегеля, — говорит г. Михайловский. — Гегель создаёт колоссальную метафизическую систему, гремящую на весь мир, так что
от неё нет прохода даже на берегах Москвы-реки…» Тут дело изображается так, как будто Гегель непосредственно от физиков заразился «гальваническим мистицизмом». Но ведь система Гегеля представляет собою лишь дальнейшее развитие взглядов Шеллинга; ясно, что зараза должна была подействовать прежде на этого последнего. Она и подействовала, — успокоительно отвечает г. Михайловский, или Филиппов, или Фрэзер: «Шеллинг, и особенно некоторые врачи, бывшие его учениками, довели учение о полярности до последней крайности». Хорошо. Но предшественником Шеллинга был, как известно, Фихте. Как на него повлияла гальваническая зараза? На этот счёт ничего не говорит г. Михайловский: вероятно, он думает, что никак не повлияла. И он совершенно прав, если действительно так думает: чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать одно из первых философских сочинений Фихте: «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre», Leipzig 1794 («Основы всего науко-учения», Лейпциг 1794. — Ред.). В этом сочинении никакой микроскоп не откроет влияния «гальванизма», а между тем и там фигурирует та же самая пресловутая «триада», которая, по мнению г. Михайловского, составляет главный отличительный признак гегелевой философии и родословную которой Фрэзер, будто бы с «значительной долей истины», ведёт от «опытов Гальвани и Вольты»… Надо сознаться, что всё это очень странно, хотя и нельзя не признаться, что всё-таки Гегель и проч. и проч.
Читатель уже знает, как смотрел Шеллинг на магнетизм. Недостаток немецкого идеализма заключается совсем не в том, что в его основе лежало, будто бы, излишнее, неосновательное, принявшее мистическую форму увлечение естественно-научными открытиями того времени, а, как раз наоборот, в том, что он все явления природы и истории старался объяснить с помощью олицетворённого им процесса мышления.
В заключение — отрадное известие. Г. Михайловский нашёл, что «метафизика и капитализм находятся в теснейшей связи между собой; что, говоря языком экономического материализма, метафизика есть необходимая составная часть «надстройки» над капиталистической
формой производства, хотя в то же время капитал поглощает, приспособляет к себе все технические приложения враждебной метафизике науки, основывающейся на опыте и наблюдении». Г. Михайловский обещает поговорить об «этом любопытном противоречии» когда-нибудь в другой раз. Поистине «любопытно» будет исследование г. Михайловского! Подумайте сами: то, что он называет метафизикой, получило блестящее развитие в древней Греции и в Германии XVIII и первой половины XIX века. До сих пор думали, что древняя Греция вовсе не была капиталистической страной, а в Германии указанного времени капитализм только что начал развиваться. Исследование г. Михайловского покажет, что с точки зрения «субъективной социологии» это совсем неверно, что именно древняя Греция и Германия времён Фихте — Гегеля были классическими странами капитализма. Вы видите теперь, «почему сие важно». Пусть же поторопится наш автор опубликовать своё замечательное открытие. Спой, светик, не стыдись!